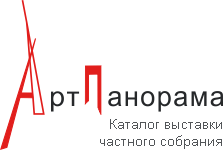Режим работы в марте
Артпанорама поздравляет всех дам с наступающим праздником весны - Международным женским днём 8 Марта!
Галерея будет закрыта для посещения 8,13,14,15,18,19,22,23 и 24 марта 2025 г.
С нами всегда можно связаться по телефону +79035098386 или в WhatsApp.
Для своего собрания «АртПанорама»
купит картины русских художников 19-20 века.
Свои предложения и фото работ можно отправить на почту artpanorama@mail.ru ,
а так же отправить MMS или связаться по тел.
моб. +7(903) 509 83 86,
раб. 8 (495) 509 83 86 .
Заявку так же можно отправить заполнив форму на сайте.
а так же отправить MMS или связаться по тел.
моб. +7(903) 509 83 86,
раб. 8 (495) 509 83 86 .
Заявку так же можно отправить заполнив форму на сайте.
03 мар, 2025
Режим работы в марте13 янв,2025
Васин Виктор Федорович, художник22 дек, 2024
Режим работы в новогодние праздникиАрхив новостей
Режим работы в марте13 янв,2025
Васин Виктор Федорович, художник22 дек, 2024
Режим работы в новогодние праздникиАрхив новостей
Обсуждение картин
Книги
>>Удивительный Галенц. Статьи.
Очень часто останавливаюсь у этой стены и тогда забываю, что я у себя дома. Тюльпаны Галенца согревают глаза, и в каком бы состоянии ни была в тот миг душа — ощущение полноты жизни и доступности счастья появляется в ней. Арутюн подарил мне это свое полотно четыре года назад, в Ереване. Мы виделись всего дважды, он плохо говорил по-русски, а я не знаю его армянского и тех других — арабского, французского, которым обучила его жизнь. Отчего он чувствовал, что его подарок так нужен и важен будет мне, отчего он был так чуток и щедр? «Художник знает все, даже то, чего не видел никогда»‚ -говорили греки. Так Галенц знал и понимал далекую от него московскую мою жизнь, так чувствовал сердце едва знакомого человека.
У этого натюрморта есть сюжет, (философии, в нем ощутим эффект личного присутствия лирического alter ego Галенца‚ раздумывающего о краткой жизни красоты, касающегося влажных лепестков, чтоб сохранить это при прикосновении к Родине. Нет, я не ошибаюсь—для Галенца каждый его пейзаж или натюрморт был лицом Армении, каждый портрет—изображением хозяина или гостя Армении. Его патриотизм был не тем спокойным чувством, которое возникает в нас в детстве и медленно живет где-то рядом с нами — его патриотизм был выстрадан, он пришел в зрелости, это было не мирочувствование, но страсть, жгучее, острое, трагическое чувство.
Мне кажется, это чувство все определяло в творчестве Галенца. И, говоря о трагичности его, вовсе не имею в виду неудовлетворенность или безысходность любви художника к вновь обретенной Родине. Трагическое не антипод счастливому: Галенц помнил всегда, как тосковал об Армении вдали от нее, и эта память о пережитом стала слагаемым его патриотизма. Армянская печаль, будто синий абрис фигур его героев, всегда стояла за ним самим- познакомившись с ним, я познакомилась и с нею. Трудно сказать, какой жанр был ему наиболее близок. Его линия поражала мощью и пластикой; его мазок— широтой и одновременно точностью. Он, что называется «мыслил плоскостями»: конструировал свой сюжет из цветных плоскостей, строил его, играл тенями и светом. О нет, в его композициях вовсе не властвовал рацио‚ их гармония достигалась не мыслью, но чувством. Галенц был артист. Артистизм, легкость, изящество его искусства более всего поразили меня в мастерской на улице Месропа Маштоца. Он был трагический артист, его глаза замечали прежде всего печаль, боль- в человеке ли, в природе ли, в вещах ли- живых и мертвых.
Он перевоплощался в то, что писал. Это не фраза. Он становился той гордой девушкой Сато, портрет которой почти геометричен, если бы не скорбный рот и глаза; он чувствовал себя голым осенним деревом у горного селения; он прощался с красотой вместе с моими тюльпанами и также клонился долу, вытягивался лебедем на голубой скатерти. Разные бывают на свете художники—Галенц был душой всего, что видели его глаза, вот почему эту мятущуюся, беспокойную душу сохранила его живопись, вот почему она с нами сегодня. Помню всегда атмосферу его дома, его мастерской. Он был счастлив ею, в ней жило его искусство. Не высокий (как почему-то большинство талантливых людей на свете), легкий, круглоглазый, Немедленно отзывающийся на шутку смехом—будто он струна, отдающая звук на любое прикосновенье, полный движением, даже когда сидел на диване и пил кофе из маленькой чашки. Он был художник не только творчеством своим, но жизнью, дыханием, этим его смехом— баритональными глубокими колокольцами, которые звенели в его горле, Армянская гортанная его речь казалась древними стихами Нарекаци или Кучака. И хотя говорил он мало, смущенно, но каждое слово было материально —его собеседник будто видел, как рождается в нем слово и как он счастливо касается его. Певчая птица с кудрявой головой...
Помню, как он вышел провожать меня во двор своего дома и показывал плиту старого могильного камня, которую привез откуда-то издалека. Свет из открытой двери и окон падал на дорожку и на святой армянский камень. Галенц двигался в полосе света и свет писал его портрет, как если бы то была его кисть...
Этот трагический художник был очень счастлив. С горы, от ворот его дома на улице Маштоца мы глядели на Ереван — огни, нежные звуки вечернего южного города, и покой, в котором только трагик Галенц улавливал беспокойство...
Да, трудно сказать, какой жанр в живописи был ему больше по душе. И все-таки, наверное, он предпочитал портрет. Лицо его героя было для него лицом жизни, Вот почему он назвал Араксом, должно быть, изображение быстроглазой юной женщины, где одна половина лица была словно закрыта туманом, а челка уступами спускалась на лоб, как дорожка к горной речке. Он мог бы назвать Севаном юношу Саро, ушедшее в себя существо в глубокой задумчивости молодости - таким и Севан бывает на рассвете...А портрет скрипача Авета Габриэляна я назвала бы портретом великой армянской музыки,- столько красоты, строгости и силы нашел Галенц в лице своего героя.
Портреты Галенца—особое явление в советском портретном искусстве. Они кажутся живописными монументами, они объемны, ментами, словно. живописцу дано было, как скульптору, отделить изображение от фона, сделать плоскость холста трехмерной- и не просто глубокой, но выпуклой.
Необыкновенно точно Галенц находил ракурс своих портретов ракурс был для него не одним лишь средством средством компоновки композиции, но важной психологической характеристикой героя. Вот почему он избрал полуфас для портрета скрипача Габриэляна: на левой, повернутой к фону стороне его лица —-— мягкая тень, след вечной печали армянской музыки, и длинный глаз уходит в эту тень, смотрит в нее внутренним зрением. Вот почему художницу Ованнесян он изобразил в фас — широкое круглое лицо спокойно, глаза обнимают родной окоем... Галенц редко писал фигуру героя, чаще лицо, жизнь этого лица, личность. Но для балерины Плисецкой ботаника Габриэлян он выбрал изображение почти в рост —- он подчеркивал этим связь с землей их профессий, их натур, искал пластический эквивалент этой связи, создавшей его героинь.
Ни одна из возможностей портрета не была утеряна мастером. Всегда особо важным был для Галенца и фон - его глубина цветовая гамма продолжали жизнь у героя в портрете, были его атмосферой, его пространством. Перекличка красок фона, рефлексы окружающих человека вещей, иногда написанных лишь полунамеком; не подробно-формируют в портретах Галенца их настроение, их лирический подтекст. В этой слитности героя с фоном, во всегдашней сдержанности его позы, в обобщенности форм и осуществлялась стремление художника к монументальности.
Галенц рассказывал мне в наших беседах, что его упрекают порой в декоративизме, в недостаточно документально переданной конкретике. Его мучили эти упреки. Наверное, он много об этом думал, но, конечно же, не мог изменить характер своего дарования, изменить свой голос. Упрекавшие Галенца забывали к тому же, что элемент декоративности — одна из сильнейших сторон великих произведений мировой живописи от Джотто и Андрея Рублева до Серова, Матисса, Сарьяна. Декор такое же естественное живописное средство, как все иные, я назвала бы его музыкальным термином «аранжировка».
Не в упрек, а в похвалу Галенцу можно сказать, что он был блистательный аранжировщик, тончайший ритмист, цветовой и ритмический строй каждого его полотна был источником гармонии. Только в этой яркой, даже яростной форме и мог быть осуществлен героический портрет современника, галерея сильных, владеющих тайнами жизни, людей.
Не боюсь сказать, что формотворчество этого художника было классичным: ведь он, строивший изображение из Цветовых плоскостей, не допускал никогда деформации натуры, всегда был верен правде, смотрел на явление младенчески непосредственно, открывал его себе и зрителю словно видел его впервые. Эта счастливая способность- понять дыхание всей жизни в любом ее проявлении и ради этого главного пожертвовать второстепенным- драгоценна в искусстве Арутюна Галенца.
Приехав в Армению еще молодым, но в значительной степени сложившимся художником, Галенц воспринял тем не менее многие постулаты армянской школы живописи. Он восхищался Сарьяном, понимал, что за варпетом—- глубина художественной культуры, связанной с русской реалистической традицией, с мощной почвой замечательной истории Армении. Он был счастлив припасть к этому живительному роднику. Но память его сердца не давала ему покоя, не позволяла забыться -—трагедия армянских скитаний стояла за его худенькими плечами, в особом свете показывая ему мир и жизнь.
Да, он приехал к нам, владея мастерством. И все-таки, говоря теперь о его уже завершившемся пути, мы понимаем, что он был советским художником. Не потому только, что самое значительное ему удалось создать в Советской Армении в последние десятилетия жизни, но потому, прежде всего, что темой его трагедии был этот контраст покоя и скитальчества, который ему дано было почувствовать лишь на Родине.
Я часто надписывала на конвертах его адрес— Ереван, улица Месропа Маштоца, 18... Из-за того, что он жил на улице Маштоца, я узнала, кем был великий Месроп и подивилась странной точности выбора судьбы: да, конечно, Галенц и должен был жить на этой улице. Я писала его имя на конверте и видела его дом, дерево у ограды, которое он изобразил осенним, оранжевое тепло и уют его мастерской, тонкие руки его жены Армине, он касался их так бережно, с тревожной лаской, которой полно было каждое движение Арутюна.
Он и сам был гармоничен, как его живопись, он был художник натурой, от него оставалось впечатление какой-то особой хрупкости его существа, и вдруг— он взглядывал на тебя как-то сильно, внимательно, будто открывал в тебе все спрятанное, молча беседуя с твоей душой. Магия жила в нем будто отдельно от него, это было провидчество, власть. Как каждый большой художник Галенц был пифией — его портреты предсказывали будущее его героя; не только будущие черты лица, но направление его грядущей жизни. Материалисты, мы не можем пока логически объяснить себе эту тайну.
Я узнала о его смерти майским холодным вечером в Москве, когда деревья еще голы, как те, которые он так любил писать на берегах Раздана, но цвет темноты и шорохи совсем иные, чем в его Ереване. «Умер Галенц»—- это было потрясение, горечь во рту, едкая соль и жжение глаз... Такой молодой,— думала я, хоть знала, что его возраст называют средним... Такой молодой, ведь он не прожил на Родине и двадцати лет... Агs lопgа, vita bгеvis...— искусство вечно, жизнь коротка.
1968 г.