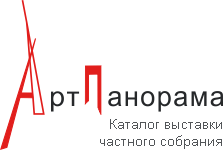Артпанорама поздравляет всех дам с наступающим праздником весны - Международным женским днём 8 Марта!
Галерея будет закрыта для посещения 8,13,14,15,18,19,22,23 и 24 марта 2025 г.
С нами всегда можно связаться по телефону +79035098386 или в WhatsApp.
а так же отправить MMS или связаться по тел.
моб. +7(903) 509 83 86,
раб. 8 (495) 509 83 86 .
Заявку так же можно отправить заполнив форму на сайте.
Режим работы в марте13 янв,2025
Васин Виктор Федорович, художник22 дек, 2024
Режим работы в новогодние праздникиАрхив новостей
Статьи
К тому времени, когда Павел Кузнецов признанный глава художников "Голубой розы" еще только приближался к высшим достижениям своего дореволюционного творчества, критика уже собиралась поставить на нем крест. Речь шла о том, что Кузнецов выдохся, что он повторяется, что он застрял на месте. На рубеже 1900-1910-х годов многие считали, что расцвет кузнецовского творчества остался позади, что лучшее время уже пройдено. Тогда все думали, что Кузнецов успел сказать свое слово. Но на самом деле он шел вперед; его ждали впереди не один успех, не один подъем, многие большие открытия. На протяжении всего своего долгого пути Кузнецов не раз был "закрыт" и потом "открыт" заново. Не раз он ставил критику в тупик своим воскресением. И всякий раз в новом рождении проявлялась закономерность общего кузнецовского движения. Особенно ясной она была в период открытия степных мотивов, в период рождения лучшего "киргизского" Кузнецова.
Ученическая судьба Кузнецова была довольно стереотипна. Родившийся и проведший молодость в Саратове, на краю степной земли, он воспринял первые уроки у саратовских учителей. Заезжий итальянец Баракки и местный художник Коновалов, выходец из Петербургской Академии, стали учителями Кузнецова по Саратовской школе изящных искусств. Они позволили молодому живописцу быстро овладеть ремеслом и включиться в общее движение русской живописи, восприняв ее важнейшие для того времени черты. «Дворик в Саратове» 1986 года (собрание семьи художника) стал первой вехой для отсчета тех расстояний, которые суждено было пройти Кузнецову. В этой ранней работе – не только убедительные черты большого живописного таланта, но и свидетельства того времени. Кузнецов словно включается в круг московских живописных интересов 80-90-х годов, воспринимает традиции Московского Училища живописи ( не случайно Училище, а потом Москва станут постоянным местом действия художника), оказывается на тех путях к живописной непосредственности, которыми шло большинство московских художников. Пленэризм, интерес к обыденному мотиву, поэзия обыкновенного, этюдизм – все это подготовило Кузнецова к органическому вхождению в традицию и к вступлению в Московское Училище.
Затем его ждала мастерская Серова и Коровина – этот плацдарм нового искусства, этот «инкубатор» самых разных индивидуальностей, счастливо вызревавших под крылом двух крупнейших художников рубежа столетий, а потом разлетавшихся – со скандалом или спокойно – в разные стороны. Кузнецов должен был чувствовать себя в Училище более на месте, чем Петров-Водкин или Машков. В нем изначала жила страсть к тонкой живописности, к артистизму, к изысканному ремеслу. Он любил непроизвольность, непреднамеренность в искусстве, и коровинский «инфантильный интуитизм» должен был быть сродни саратовскому неофиту, попавшему в российскую столицу живописи.
Первые годы нынешнего столетия отмечены в творчестве Кузнецова явным влиянием Коровина. В волжских пейзажах он ищет непосредственность, сохраняет первичное «ощущение глаза», берет традиционно-лирические мотивы – иными словами, поступает как истинный москвич. Передовые тенденции московской живописи 80-90-х годов, ведшие к импрессионизму, благотворно коснулись молодого Кузнецова, как коснулись они многих художников голуборозовского круга – Борисова-Мусатова, Сапунова, Ларионова, Крымова. Для всех этих художников накопление импрессионистических навыков было необходимым этапом развития. Коровин был не менее важен для Кузнецова, чем для всех остальных художников его круга. А серовская школа давала пока «скрытые накопления». Серовский расчет, его стильность, тяготение к большой форме, компенсировавшее этюдизм Константина Коровина, - все эти качества должны были сказаться потом. Однако «импрессионистический эпизод» Кузнецова не открывал еще подлинного лица художника. Ближе к этому открытию подводили работы предголуборозовские, относящиеся ко времени «Алой розы» - предшественницы «Голубой». Эти новые тенденции, сделавшие Кузнецова самостоятельным художником, нельзя понять, не коснувшись саратовских истоков художника и его саратовского предшественника – Борисова-Мусатова.
Наверное, без особого преувеличения можно сказать, что среди реформаторов искусства рубежа столетий рядом с Врубелем и Серовым стоит Борисов-Мусатов. Историки русского искусства в последнее время все более проникаются значительностью той роли, которую сыграл этот художник в развитии русской живописи. Эта роль была кратковременна, поэтому полное сравнение с Врубелем и Серовым было бы натяжкой. Однако, если взять ту сферу, которой коснулись новаторские черты мусатовского искусства, эту роль нельзя не заметить. Мусатов как бы наметил взрыв импрессионизма изнутри. Он шел к построенной картинной форме, пользуясь некоторыми сохраненными им же самим импрессионистическими приемами; он «разворачивал» импрессионистический метод в новую декоративную систему живописи. Поэтому голуборозовцы сделали Борисова-Мусатова своим, не только поклоняясь ему, как его саратовские последователи, но и в дальнейшем – на ретроспективной выставке «Голубой розы» в 1925 году – включив его в число голуборозовцев, взяв на себя смелость и честь стоять с ним рядом.
Борисов-Мусатов – мечтатель. Но его мечта никогда не была дружна с той разъедающей иронией, которая всегда присуща мирискусникам. Он искал тихую красоту в природе, в вымышленных героинях своих картин, погруженных в безмолвие, в самосозерцание; он предавался грустному изумлению перед красотой той волшебной земли, которую он сам выдумал и увидел как бы сквозь реальность, средствами ее постижения и своеобразного преодоления. Нередко его картины сближают с произведениями мирискусников. Но Борисов-Мусатов одновременно и простодушнее и изысканнее. При всей вымышленности созданного им мира он более привязан к реальной природе: он изучал блеклые краски осенних парков, много работал над воссозданием сложной, но прекрасной пластики человеческой фигуры, писал этюды…
… В середине 1900-х годов у Кузнецова сформировалась его ранняя самостоятельная манера. Он открыл для себя новый мир – открыл не без помощи Борисова-Мусатова, и тем не менее это был его собственный мир, который перестал быть похожим на обычные реальные явления природы и приобрел вымышленные черты. Но это была не сочиненная сказка о каких-то нездешних чудесах, не иллюстрация, не заимствование из фольклорного мира, не переложение уже известного на живописный язык. Вымысел творился самой живописью, интуицией художника, его непроизвольным движением души, воплощенным в движении кисти. Кузнецов погружался в нечто неведомое, непостижимое, в то, что связано лишь с догадкой, предчувствием, воспоминанием, смутным ощущением узнавания. Кузнецовские предметы узнаешь и одновременно не узнаешь. Они на зыбкой грани нереальности. Но грань, отделяющая их от реальности, - обязательна.
Этот шаг, который вряд ли справедливо воспринимать как некий акт чудачества, Кузнецов делал, по-видимому, совершенно сознательно. Он намеренно отрекается от прежнего художественного принципа лирического истолкования реальности. Он переходит к некоей априорной поэтичности. Его мир не имеет отношения к прозаической повседневности, которую художник традиционного «московско-лирического» направления должен пропустить через свое душевное состояние, чтобы сообщить этому миру черты собственного проникновенного лиризма. Поэтичность заранее выбрана Кузнецовым как обязательное качество всех компонентов художественного образа. Мотивы, персонажи, их состояния, ситуации, не говоря уж о живописном принципе, - все подчинено идее поэтического вымысла, все порождено стремлением Кузнецова оторваться от жизненной прозы и воспарить в неведомое, нетронутое, ничем не оскверненное…
… Людские состояния, отношения в голуборозовских картинах Кузнецова отмечены недомолвками, своеобразной небытийностью; они нереальны; Кузнецова не интересуют конкретные характеры; его люди – выдумка; склонив головы, они так же мечтают, как мечтает сам художник, они так же не замечают реальных примет окружения, так же сторонятся громких звуков, сильных движений, страстных переживаний; их удел – самосозерцание, растворение в чем-то высшем, нездешнем…
…Символистский – голуборозовский – период в творчестве Кузнецова был временем его становления. Обычно в литературе недооценивается этот важный эпизод кузнецовского творчества. Он трактуется как период заблуждений, мистики, отказа от реализма. Между тем именно в голуборозовские годы Кузнецов многое приобрел, хотя для того, чтобы подняться на следующую – пожалуй, самую высокую ступень творческого развития, ему необходимо было вновь обратиться к натуре, соединить мечту с явью, освободиться от той подтачивающей живописную пластику неясности мысли, которая все же давала себя знать в «Фонтанах» и «Рождениях».
Этот процесс начался еще в голуборозовские годы; он шел подспудно; Кузнецов на выставках сохранял свое лицо мечтателя-символиста, настойчиво продолжая выставлять картины одного и того же типа и постоянно выслушивая упреки критики в нежелании сдвинуться с места, обратиться к иным предметам. А тем временем у Кузнецова уже зрели новые темы; он выискивал новые методы, делал этюды, затем картины. Но обнаружил свое новое лицо художник лишь в 1911 году, когда на выставке «Мира искусства», куда пришли бывшие голуборозовцы, он выставил целую серию своих картин, открывших нового «степного», или «киргизского» Кузнецова.
Трудно точно установить дату первого путешествия Кузнецова в заволжские степи с целью наблюдения и собирания материала для своих картин. Где-то между 1906 и 1908 годами начинаются эти поездки. 1906 годом помечены уже некоторые картины «киргизской серии». Но критика заговорила о новом Кузнецове в 1911-м. До этого Кузнецов «таился», как бы не желая расставаться со своим старым миром, как бы ища связь между старым и новым.
Эта связь явилась. Новый Кузнецов сохранял верность вымыслу. Он вовсе не хотел изображать реальные предметы в реальном пространстве, запечатлевать конкретные черты быта кочевников, срисовывать с натуры их юрты, верблюдов, одежды, переносить в свои картины принципы их орнамента. Заметим кстати, что в некоторых самых первых живописных произведениях на «степные» темы были черты чрезмерной натурности – в таких, как «В пагоде» (1907, собрание семьи художника) или «Киргизы» (1908, собрание семьи художника). Эти черты натурности сохранились и в этюдных работах более позднего времени; однако, создавая картины, Кузнецов отходил от этюдности, в большей мере отдавался вымыслу, пользуясь реальностью лишь как отправной точкой в создании образа и в какой-то мере снова возвращаясь к голуборозовским принципам. Правда, в «Фонтанах» реальный компонент выступал в качестве лишь бледного отсвета воспоминаний. А в киргизском цикле вымысел как бы постоянно находился под стражей натуры. В этом-то и была разница между старым и новым. Но в этом же была одновременно и их близость.
О паломничестве Кузнецова на Восток уже много написано… Восток снизошел на Кузнецова, как небесный дар его мечте. Это было не бегство, а обретение. Мечте не нужна вся действительность. Кузнецов не собирался сам жить этой жизнью; он продолжал быть европейцем; он не хотел растворяться в повседневности кочевых народов. Поэтому не он бежал в заволжские степи, а они как бы пришли к нему, дав ему те самые «полуреальности», которые должны были соединиться с художническим вымыслом и произвести на свет шедевр кузнецовского творчества. Это было бегство наполовину.
Неиспорченность кочевой цивилизации была, конечно, той привлекательной чертой, без которой художника не потянуло бы в киргизские степи. Но не просто в кочевой жизни был идеал Кузнецова. За «степным образом жизни» стояло нечто более древнее и исконное, первородное в человечестве, неодолимое и несломленное столетиями. Кузнецовский идеал слагался из этого вечного и вымышленного. Поэтому для Кузнецова его киргизская эпопея тоже была своего рода ориентализмом наполовину…
…Вся киргизская сюита, возникшая как драгоценная находка, как откровение, как новое слово в русской живописи, как подлинное открытие новых сюжетов, их необычного образного истолкования, новой гармонии, которая достигалась отточенным мастерством, умением художника привести в движение все данные ему средства художественной выразительности, проникнута этой «примитивной мудростью» понимания мира. В этом смысле Кузнецов обладает неповторимой цельностью.
Сюжеты картин этой сюиты необычайно просты. Женщины стригут овец, спят в кошаре или расстилают ковры возле своих шатров. По пустыне медленно бредут верблюды. Стада овец застыли в безбрежной зелени степей. Одинокие деревья отмеряют степные просторы. Идет дождь. Волшебник-мираж изукрашивает высокий небосвод фантастическими разводами…
…Пожалуй, самым натурным мотивом, который был найден Кузнецовым в Киргизии, стал мотив дождя в степи. Не случайно художник работал над ним особенно долго, много раз повторяя композицию, лишь слегка видоизменяя ее, внося какие-то оттенки в ее трактовку: видимо, было нелегко «оторваться» от натуры, до конца не изменив ей…
…Кузнецов в процессе работы над киргизской серией нашел идеальные состояния своих героинь, их постоянные позы, характерные изгибы и повороты тела. Сидящие и стоящие женщины в сценах стрижки и кормления баранов, гадальщица (этому сюжету художник посвятил целый ряд своих произведений), лежащая женщина («Спящая в кошаре») – вот самые классические кузнецовские образы. Плавность движения рук, ритуальность действий, отрешенность от обыденного придают кузнецовским женщинам совершенно особую красоту. Они не списаны с натуры, а измышлены. Кузнецовские идеальные образы женщин согласуются с его принципом повторяемости – вариационности. Найдя своих героинь, он дает им жизнь в разных сюжетных ситуациях; он сопоставляет «холодные» мотивы, соединяет их вместе. В этом принципе – влияние Гогена и японской живописи, которой тогда был увлечен не один Кузнецов. «Японизм» Кузнецова проявляется не в заимствовании каких-то отдельных приемов, а в самом принципе… Кузнецов творил мягко и поэтично. Восток, создавший некогда великое искусство, основанное на каноне, словно напомнил о своих былых завоеваниях московскому живописцу. Кузнецов воспринял Восток как категорию, родственную собственному душевному строю, как выражение самого вечного, что есть на земле, самого древнего и постоянного.
Д. Сарабьянов «Киргизская сюита Павла Кузнецова» из книги «Русская живопись конца 1900-х – начала 1910-х годов». Д. Сарабьянов