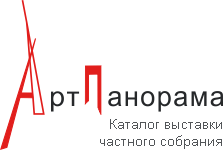Артпанорама поздравляет всех дам с наступающим праздником весны - Международным женским днём 8 Марта!
Галерея будет закрыта для посещения 8,13,14,15,18,19,22,23 и 24 марта 2025 г.
С нами всегда можно связаться по телефону +79035098386 или в WhatsApp.
а так же отправить MMS или связаться по тел.
моб. +7(903) 509 83 86,
раб. 8 (495) 509 83 86 .
Заявку так же можно отправить заполнив форму на сайте.
Режим работы в марте13 янв,2025
Васин Виктор Федорович, художник22 дек, 2024
Режим работы в новогодние праздникиАрхив новостей
Статьи
Для всех, кто имел честь быть современником Петра Петровича Кончаловского и знать его, могло быть только великим удовольствием встречаться и говорить с ним, любоваться этим огромным, коренастым человеком, до конца своих дней полным бурной и несокрушимой творческой энергии, слушать его, быть может, не всегда последовательные, но всегда пронизанные искренней и пылкой увлеченностью суждения об искусстве. Сейчас его картины заняли свое почетное место в истории лучших достижений советского искусства; они хранят в себе немеркнущий образ этого большого художника, творчество которого было целиком, без остатка посвящено пламенному утверждению жизни. Петр Петрович Кончаловский тщательно считал свои произведения их было много; придя к нему в мастерскую, можно было услышать, что у него „идут уже тысяча шестисотые (или тысяча семисотые) номера —это, конечно, не считая акварелей и рисунков“, которым, видимо, уже не было счету. Каждая из его многочисленных больших выставок могла вместить только очень малую долю того, что было создано им за шестьдесят лет творческой работы, а работал он неустанно и непрерывно. Вряд ли в его биографии был хотя бы один день без живописи. Творчество Кончаловского—такая же органическая и естественная форма его существования, как для звезды или солнца их сияние, как для реки неуклонное и стремительное течение, идущее к одной неизменной цели. В живопись у него превращалось все: большое и малое, люди и вещи, неповторимые особенности человеческих характеров и мельчайшие различия и оттенки в краске и фактуре предметов. Только Кончаловский был способен с совершенно одинаково ненасытной и заботливой внимательностью переливать в цвет и краски нежное благоухание сирени и терпкий запах мясной туши, угловатые, упругие движения полотера и изящный, стремительный ритм игры артиста театра Кабуки, свежеструганные доски террасы и белые неровные стены древних новгородских церквей. У Кончаловского было явное стремление подвергнуть испытанию живописью все, что существует на свете. Он не всегда успевал установить более углубленную точку зрения на вещи, увлеченный их красочным великолепием, придавая своему чувству мироздания в некоторой мере стихийный оттенок. Что ж, широкий и мощный поток может одинаково бесстрастно нести на себе и прекрасные большие корабли и старые почерневшие бревна, может отражать высокое синее небо и быть в какие-то времена тусклым и мутным. Кончаловский никогда, конечно, не бывал бесстрастным, подобно природе: его искусство совершенно очевидно полно чисто человеческого бурного и страстного темперамента. Его сверкающая и яркая живопись почти никогда не становилась тусклой и вялой. Но тем не менее два впечатления неизбежно возникают одновременно и слитно, когда смотришь его работы: ощущение необузданной, мощной жизнеутверждающей силы искусства Кончаловского и ощущение явной недостаточности в нем избирательной способности —умения строго и безжалостно отбирать самое главное и существенное в жизни, что только и придает искусству любого художника гармоническую целостность. Этим последним качеством в высокой мере обладали художники такого типа, как Александр Иванов и Валентин Серов. Но у Кончаловского широта и щедрость творчества переходили очень часто в расточительство, и на каждой его выставке всегда вперемежку висели шедевры и неудачные работы, сделанные с одинаковой искренностью и с одинаковым увлечением. Было бы совсем неверно решить, что интеллектуальная — размышляющая и отбирающая способность художника не интересовала Кончаловского или была отодвинута им на второй план. Он сколько угодно умел выбирать умно и остро. Продуманная строгость композиции есть во многих его картинах разных лет, возникших в результате долгой и кропотливой подготовительной работы во множестве рисунков и эскизов. Таковы и «Ковка буйвола» 1927 года, и «Полотер», и огромный пейзаж «На полдни» (оба 1946). Но Кончаловского слишком захватывали и подчас заполняли первозданные цвета и краски вещественного мира, и он не мог устоять перед их соблазном. Тогда ум и сердце уступали место глазу и вкусу, и в его живописи физиологическая чувственность словно парализовала силу обобщения, порождая странные и ненужные вещи, снижающие и засоряющие представление о большом художнике. Правда, эта «экстенсивность» творчества, превращавшая в живопись все, что хотя бы на минуту занимало внимание художника, не помешала самому главному – глубоко самобытному и оригинальному творческому облику Кончаловского. Он упрямо и непреклонно следовал по своему пути, избранному после некоторого срока разнообразных поисков и блужданий, он сохранял этот свой путь убежденно и твердо, веря в свою правоту. В конце концов он и действительно оказался прав, так как создал свой неповторимый мир художественных образов – мир достаточно широкий, чтобы его творения могли давать радость большому кругу очень разных людей, мир далеко не всеобъемлющий, но на редкость живой, интересный и яркий. Если не все в этом мире было одинаково жизнеспособным, если не все получалось одинаково хорошо и убеждающе достоверно, то, во всяком случае, в любой вещи Кончаловского – картине, акварели, рисунке – неизменно присутствовала одна и та же художественная индивидуальность, не знающая ни подражаний, ни стилизации подо что бы то ни было, ни приспособлений. Как ни странно, многие близкие друзья художника, как и многие его недруги и противники, искренне и постоянно верили в более или менее вольное обращение Кончаловского с реалистическими принципами. Ему все время припоминали его „сезаннизм“, а он неизменно протестовал и сердился‚ и был совершенно прав. Для него и „сезаннизм“ и вообще какие-либо уводящие от реализма искания и опыты были давным-давно прошедшим временем. В творчестве каждого художника, если он действительный, настоящий художник, наступает момент, когда он окончательно становится сам собой, растворяя в своем новом искусстве все, что досталось ему по наследству. Разыскать этот момент, установить его признаки, высмотреть, как рождается новый художник,—в этом, быть может, и заключена самая плодотворная и увлекательная сторона истории искусства и художественной критики. Тогда будут интересовать в первую очередь не остатки старого, не „влияния“ и „заимствования“, а кристаллизация новой, самобытной точки зрения на реальный мир, становление новых путей для небывалого ранее раскрытия художественной прелести реальной жизни и обновления арсенала реалистических художественных средств и приемов. Тогда каждый шаг художника к художественному совершенству, к освобождению своего искусства от чужих чувств, мыслей и приемов должен отмечаться как наиболее важное событие в его творческом пути, как то, что решает и определяет его судьбу, взвешивает его права на признание и уважение. Великая Октябрьская социалистическая революция решительно и глубоко переломила творческие пути многих выдающихся русских художников, она наполнила их творчество новым содержанием, преобразившим их художественную форму. Сложение подлинного творческого облика Кончаловского, рождение его творческой личности произошло в 20-х годах. Можно сказать больше: то, что он сделал в 20-е годы, стало прочной и почти что постоянной основой всех последующих тридцати лет его художественной биографии, не меняясь именно в своих наиболее существенных качествах. В 20—е годы Кончаловский стал художником-реалистом. Раньше, до революции и в годы гражданской войны, он увлекался разными формальными экспериментами, где импрессионисты, а потом Сезанн были лишь эпизодическими источниками подражания и опытов. Нужно сказать, что и взаимоотношения с Сезанном были у Кончаловского посложнее, чем у подавляющего большинства бесчисленных подражателей французского мастера, расплодившихся по всему белому свету. Кончаловский (как и Машков) лишь коснулся одним краем своего ищущего и пестрого творчества ранних лет сезанновских догматов, в которых другие художники утонули и растворились действительно без остатка. Кончаловский остался довольно-таки равнодушным к аналитической тенденции сезанновской живописи, приведшей в конце концов к бесстрастному рассудочному схематизму некоторых поздних и далеко не лучших картин Сезанна. Широкая и резкая обобщенность формы и цвета Сезанна была воспринята Кончаловским прежде всего как хорошее противоядие по отношению к томной стилизации художников „Мира искусства“. Отвлеченные опыты геометризации и построения формы условным цветом также мало прельщали Кончаловского, для которого вещественное бытие представляло главную и неоспоримую ценность жизни. Да и не мог забыть совсем образную основу искусства художник, который в эти самые годы ездил с Суриковым в Испанию и обладал таким вкусом к полнокровному реальному существованию, не могущему вместиться ни в какие ученые схемы. Кончаловский явно посматривал больше на те работы Сезанна, где сам французский мастер любовался живым, реальным строем вещей вроде его „Mardi-gras “ или „Берегов Марны“. Поэтому „сезаннизм“ сказался у Кончаловского главным образом в разных внешних приемах, стал для него модной манерой, а не мировоззрением. Этой манере он отдал обильную дань, отзвуки ее можно было наблюдать и долго спустя, когда он уже радикально изменился, но даже в 1910-е годы „сезаннистская“ манера не заслонила для него живое ощущение жизни, как это видно по работам, связанным с испанским путешествием. Участие Кончаловского в выставках художественной группы „Бубновый валет“ было скорее данью внешней и эффектной новизне формальных опытов, чем подлинным убеждением. Очень часто вся модная новизна Кончаловского в период до 1917 года сводилась к „принципиально“ небрежной, грубой фактуре, к нарочито широкой и упрощенной, эскизной манере письма, которую художник иногда довольно механически добавлял к композиции, построенной и нарисованной согласно самым обычным академическим правилам. В первые годы после Октябрьской революции, когда разнообразные отвлеченные формальные эксперименты казались некоторым художникам наиболее соответствующими задачам нового, революционного искусства, в творчестве Кончаловского резко усилились не только „сезаннистские“, но и кубистические опыты („Скрипач“, 1918). Надо сказать, что такого рода эксперименты чрезвычайно быстро надоели Кончаловскому: их рассудочность и искусственность шли совершенно вразрез с присущей ему жизнерадостной полнотой восприятия жизни, а их полная непригодность для выражения каких-либо новых и революционных идей стала очевидной для всех еще в годы гражданской войны. В 1922—1923 годах, когда в советском искусстве по самым разным направлениям наметился всеобщий поворот к реализму, Кончаловский решительно порвал и с „сезаннизмом“, и с кубизмом‚ и с прочими отвлеченно-формальными теориями. Такие работы, как „Автопортрет с женой“ (1923) или ,‚Ночной сторож“ (1923), возвратили Кончаловского к традиции русской реалистической живописи, к ничем не прикрытому и не замутненному интересу к жизни, к живым людям. Трудно переоценить важность этого спуска из заоблачных высот отвлеченного и самодовлеющего формотворчества на реальную землю. В „Автопортрете с женой“ и „Ночном стороже“ Кончаловский пришел к вещественности и материальности, к физическому ощущению материального бытия, к несколько еще тяжелому, но насыщенному и красивому тональному строю, свободному от той рыхлой неопределенности, какая культивировалась в свое время „сезаннистами“. „Автопортрет с женой“, несмотря на откровенное использование темы Рембрандта, менее всего напоминает парафразу „Автопортрета с Саскией“, настолько сильно в нем чувство своего собственного времени и места, настолько мало в нем каких бы то ни было элементов музейной ретроспекции. Серьезный, немного сумрачный „Ночной сторож“ предвещает уже одну из существенных линий в творчестве Кончаловского - тот обширный круг его тем и образов, который связан с поисками национальных народных русских типов и характеров. Столь явный и резкий перелом от живописи «вообще» к живописи, связанной с непосредственным чувством своего времени, своей страны, своего народа, не мог, разумеется, произойти совсем просто и без затруднений. Наряду с сильными и серьезными работами он породил и разного рода неудачи. Только «Издержками» этого крутого сдвига, оставшейся от прошлого привычкой к нарочито огрубленной эскизной широте манеры, к смутному и условному цветовому строю и смятой живописной форме, можно объяснить появление таких картин, как «Лежащая женщина» (1924) или «Женщина перед зеркалом» (1923). Их «тяжеловесная» материальность, ничем не одухотворенная, сделала их чуждыми наметившемуся реалистическому пути художника. Но дальше, с 1924 года, этот новый путь Кончаловского начал становиться все более твердым, убежденным и уверенным, принеся с собой целую вереницу блестящих успехов. Три цикла работ 1924—1927 годов определили, собственно говоря, весь творческий облик художника, дали живую, но в главном уже не меняющуюся основу для всех его дальнейших художественных исканий. Этими тремя большими и очень значительными сериями картин и этюдов стали прежде всего неаполитанские, римские и венецианские пейзажи, написанные во время путешествия в Италию в 1924 году, затем — обширная серия жанровых и пейзажных работ, выполненная в Новгороде в 1925—1926 годах, и серия картин и этюдов, сделанных в результате поездки на Кавказ в 1927 году. С этими же годами связан и ряд превосходных портретов. Два важных качества раскрылись со всей ясностью в этих работах. Во-первых, глубокое и увлеченное внимание к красоте и богатству реальной жизни, вылившееся в яркую, сильную, самобытную художественную систему. Во-вторых, сознательное и последовательное возвращение к старой традиции русской живописи, идущей от Александра Иванова до Сурикова и Серова. В пейзажах этих лет сложилось и прочно укоренилось то экспансивное, широкое и влюбленное отношение к красоте природы и старой архитектуры, которое осталось у Кончаловского на всю жизнь. Он был полностью захвачен и солнечным сиянием благодатного итальянского юга, и потемневшими от времени стенами Рима и Венеции, и сверкающей белизной древних церквей Новгорода. Он всюду сумел распознать неповторимые местные особенности, воссоздавая в своей живописи не какие-либо беглые впечатления праздного туриста, а фундаментальное, доскональное знание широко образованного и тонко чувствующего мастера. Такие пейзажи, как „Рим. Марк Аврелий“ (1924), или „Новгород. Антоний Римлянин“ (1925), или „Ветлы на Волхове“ (1926), или кавказские пейзажи со старыми руинами и бурными реками, только со всей зоркостью умного и точного наблюдателя, но и с необычайно острым поэтическим чувством. Когда Кончаловскому понадобилось так изображать природу, то он, естественно, обратился к благородному искусству Александра Иванова как образцу, заслонившему собой все, что когда-то художник черпал из впечатлений от живописи Сезанна, Вламинка или Фриеза. Это обращение к Иванову было еще довольно робким и внешним в первых итальянских пейзажах Кончаловского, писанных в Сорренто. Влияние Иванова стало глубоким и благотворным в новгородских и особенно кавказских пейзажах, где изображены старые ивы над водой или стремительная горная река, плещущаяся о каменистый берег. Живописное мастерство Кончаловского стало гораздо собраннее и строже, чувство цвета тоньше, а композиция цельнее от соприкосновения с гением великого русского художника. Рядом с Ивановым встал Суриков. После Великой Октябрьской социалистической революции, которая развила в художниках вкус к реальной жизни, к утверждению ее ценности и неисчерпаемого богатства, Кончаловский еще глубже понял искусство своего тестя. Суриковским духом проникнут и прекрасный портрет дочери, Н. П. Кончаловской, в розовом платье, поправляющей, нагнувшись, туфлю (1925), и портрет жены, О. В. Кончаловской, с бусами (1925). В Новгороде Кончаловский нашел одинаково яркие впечатления и современной жизни и уходящего прошлого – старой России, которую он смог изобразить с силой и выразительностью не меньшей, чем у Сурикова: в том же году 1925-м Кончаловский дважды написал новгородского архиерея Фотия — один раз во время церковной службы, другой — дома за работой, тачающим сапоги, и художника равно пленили сверкание расшитой золотом и цветами парчовой ризы, и серо-черное мерцание голенищ и колодок, обрамляющих широкое и совсем не набожное добродушное старческое лицо с всклокоченной седой бородой. Во всех этих работах та же, что у Сурикова, буйная неукротимость цвета, то где-то подспудно горящего, глухо и напряженно, то сверкающего, как солнце, всеми ослепительными оттенками желтого, золотого, розового. В них то же грубоватое по внешности, утонченное по существу раскрытие изображенных людей. Но не подражательное, даже и не собирающееся что-то заимствовать или имитировать, а переложенное на язык своего жизнеутверждающего, бурного искусства, переполненного через край интенсивным ощущением жизни, все равно — в молодой девушке или в дряхлом старике, в волховских рыбаках и крестьянах, едущих с ярмарки, в мерцании древних фресок или в блеске модного платья 20-х годов—во всем, что сплетено и связано с человеческим бытием. Может быть, во всем этом периоде творчества Кончаловского не хватало психологической сложности образов, которая пришла позже, в 30-е годы. Может быть, не было здесь и достаточного тематического диапазона, так как Кончаловский ни в эти годы, ни позже не пытался затрагивать многие важные темы современной советской действительности. Но это искупалось силой и убедительностью его реализма, влившегося органической и очень значительной составной частью в общее реалистическое развитие советского искусства. Работами, подытоживающими этот первый этап завоевания реалистических принципов, явились в творчестве Кончаловского две картины большого размера и с большим образным замыслом — „Ковка буйвола“ (1927) и „Купанье конницы“ (1928). Обе эти картины одинаково ставили одну задачу-выразить жизнеутверждающую силу человеческого бытия в образах могучих, здоровых, деятельных людей, уверенно и прочно чувствующих себя в жизни. Сюжеты, правда, были трактованы Кончаловским в несколько общем плане, без достаточных примет времени; в изображенных им людях есть бесспорный оттенок стихийной физической силы—им недостает ясно выраженного душевного содержания. В „Купании конницы“ эта ограниченность выступила резко, и картина не оправдала ни своих размеров, ни большого затраченного труда художника. Зато „Ковка буйвола“ стала одной из значительных работ Кончаловского, так как напряженная, динамическая композиция и блестяще сгармонированный цветовой строй органически объединили всех „участников“ этой сцены в единый сильный образ человеческого труда— спокойного, серьезного, полного целеустремленной волн и красочного великолепия. Кончаловский превосходно построил контраст между коренастыми, мощными фигурами крестьян и тонкой, даже изящной фигурой седобородого кузнеца, который внимательно и заботливо подковывает беспомощно лежащего на спине черного буйвола. Черная, лоснящаяся шкура могучего быка оттенена яркой одеждой крестьян, синим южным небом, золотым кукурузным початком. В 30-е годы искусство Кончаловского обрело всю полноту зрелого и ясного мастерства, направленного на выражение целостного и убежденного художественного мировоззрения. В этот период окончательно определились главные темы художника—портрет‚ пейзаж, натюрморт,— в которых опыт 20-х годов развился широко и свободно. Лишь в редких случаях Кончаловский обращался к созданию произведений в других жанрах („Хохломские мастерицы“, 1935; „Пушкин“, 1937), причем эти работы не относятся к его высшим достижениям. Но в портрете, пейзаже и натюрморте Кончаловский создал вещи, принадлежащие к числу тех произведений, которые определили важнейшие успехи советского искусства за сорок лет его исторического пути. Во всех этих основных областях своей деятельности Кончаловский постоянно бывал неровен, я его неудачные работы нередко заслоняли в глазах критики главное направление и главное содержание его творчества. Так сложилось, например, ошибочное суждение, будто Кончаловскому вообще чуждо портретное искусство, что в его портрете нет достаточной глубины психологического анализа и образной характеристики. Это неверно: уже на протяжении 30-х годов Кончаловский создал целую вереницу превосходных портретов своих современников - обычно выдающихся деятелей советской культуры в самых разных ее сферах. При этом, как правило, Кончаловский работал над сложными композиционными портретами, очень часто в рост, с широко использованными пейзажным или интерьерным фоном. Ряд этих портретов был начат динамическим и темпераментным портретом Тодзюро Каварасаки, японского актера театра Кабуки (1928). За ним последовали портреты композитора С. С. Прокофьева (1934) и пианиста В. В. Софроницкого (1932), артистки А. О. Степановой (1933) и брата художника — профессора М. П. Кончаловского (1934)‚ мастера-резчика А. Ефимова (1936) и режиссера Вс. Э. Мейерхольда (1938), студента негра Дж. Берроуза (1940) и писателя А. Н. Толстого (1941)—целый цикл чрезвычайно разнообразных и ярких работ, раскрывающих, быть может, самую лучшую и самую ценную сторону деятельности большого советского художника. Эти портреты продолжают и развивают традицию русского портрета, перекликаясь с портретами Сурикова и Репина, Серова и Нестерова и вместе с тем утверждая дух своего времени в образах людей, полных внутренней значительности. Каждый из упомянутых мною портретов опровергает мнение о „второстепенности“ или „неполноценности“ портретного искусства Кончаловского. С каким продуманным и тонким мастерством воссоздан Кончаловским облик выдающегося советского режиссера Вс. Э. Мейерхольда: яркое и сверкающее великолепие многоцветных орнаментов ткани на стене и ковра на диване прекрасно оттеняют строгую, одетую в черное фигуру Мейерхольда‚ лежащего на диване и погруженного в глубокую и сумрачную задумчивость. Той же строгой, даже немного суровой серьезностью отличается и портрет М. П. Кончаловского, где приглушенный цветовой аккорд белой одежды и вечернего пейзажа служит верным и точным аккомпанементом к углубленной и сосредоточением работе мысли, выраженной во всем облике крупнейшего советского медика. Даже вызывавший много недоумении и нареканий портрет А. Н. Толстого («А. Н. Толстой в гостях у художника») предстает теперь во всей своей значительности: очень похожий и блестяще написанный портрет, несмотря на свое полушутливое натюрмортное сопровождение, хорошо раскрыл душевный облик писателя. Одним из сильнейших портретов Кончаловского стал и прекрасный портрет Берроуза с его благородной и сдержанной цветовой гармонией черно-коричневого и синего, с его трогающей сердечностью и душевной тонкостью. С конца 20-х годов определились и основные особенности натюрморта Кончаловского (в таких работах, как, например, „Табачные листья“, 1929), а также и его пейзажа, где окончательно кристаллизовались лучшие и сильные качества, добытые художником в 1924-1927 годах («Коломенское после дождя»‚ 1930; «Ленинград. Домик Петра I» (1931). О натюрмортах Кончаловского писалось много, иногда эта сторона его творчества объявлялась самой для него характерной и самой главной. Но мне кажется, что сейчас уже можно сделать некоторые поправки в ставшие привычными суждения. Натюрморты Кончаловского, в общем, оказались тем сильнее и лучше, чем строже и собраннее было их исполнение, чем дальше они уходили от несколько упрощенного иордансовского «изобилия»‚ преломленного в ряде пышных декоративных холстов нагромождением мясных туш, дичи и овощей. В 30-е годы возникли знаменитые «букеты» Кончаловского, действительно ставшие не только одним из его любимых занятий (он ведь сам был прекрасным садовником), но и одним из лучших созданий русского и советского натюрморта. Великая Отечественная война обострила и углубила лучшие качества искусства Кончаловского. Он откликался на непосредственные темы военных лет (большая картина „Где здесь сдают кровь?“, 1942). Но наиболее глубокое выражение своих и общенародных чувств он снова нашел в искусстве портрета. На первом месте здесь замечательный «Автопортрет» 1943 года, скорбный, напряженный, глубоко задумчивый и трогательный. С годами Кончаловский не старел ни телом, ни духом последние десять лет его жизни и творчества ни на мгновение не давали какого бы то ни было снижения мастерства или снижения жизнеутверждающей энергии художника. К этим годам относится особенно много портретов, большей частью сосредоточенно-итимного и камерного характера. Среди них были и плохие, были похожие, но не до конца раскрывающие внутренний строй модели, но хороших портретов было вполне достаточно, чтобы относиться к этой стороне творчества Кончаловского с глубоким уважением. Можно назвать превосходный портрет хирурга А. А. Вишневского (1951) или длинный ряд портретов внуков художника — ,‚Маргот танцует“ (1949), „Андрон с собакой“ (1949), „Маргот с кошкой“ (1948)— и станет ясным широкое и щедрое многообразие Кончаловского, всюду выдающее вместе с тем одну и ту же широкую и щедрую душу большого мастера. В послевоенные годы Кончаловский подвел итоги своему монументальному, полному жизненных сил пейзажному искусству („На полдни“), своему любованию бесконечным богатством материального бытия во множестве прекрасных натюрмортов („Полевые цветы на фоне зеленых жалюзи“, ‚,Шиповник на фоне белой изразцовой печки“, „Вино и ветчина“, длинный ряд „сиреней“ и т. д.). Он создал своеобразную жанровую картину своего „Полотера“ (1946), написанного с нескрываемым восхищением точной, сильной, красивой, целеустремленной человеческой работой. В таких картинах мировоззрение Кончаловского выступает в своих самых сильных, самых значительных и не стареющих качествах, быть может, нагляднее и цельнее, чем он мог выразить в своих словах и суждениях. Но и они, изменяясь с годами, всегда, в основе своей несли то же великое уважение к жизни и к целеустремленному, созидательному творчеству. Да и все искусство Петра Петровича Кончаловского, со всеми своими исканиями и открытиями, заблуждениями, неудачами и большими, глубокими и важными достижениями, кажется прославлением и возвеличением человеческого труда и творчества на благо и на радость людям.
Автор статьи: А. Чегодаев