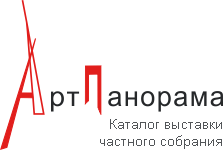Артпанорама поздравляет всех дам с наступающим праздником весны - Международным женским днём 8 Марта!
Галерея будет закрыта для посещения 8,13,14,15,18,19,22,23 и 24 марта 2025 г.
С нами всегда можно связаться по телефону +79035098386 или в WhatsApp.
а так же отправить MMS или связаться по тел.
моб. +7(903) 509 83 86,
раб. 8 (495) 509 83 86 .
Заявку так же можно отправить заполнив форму на сайте.
Режим работы в марте13 янв,2025
Васин Виктор Федорович, художник22 дек, 2024
Режим работы в новогодние праздникиАрхив новостей
Статьи
Когда произносят имя Татьяны Алексеевны Мавриной, прежде всего, вспоминаются детские книжки. Иллюстрации к народным русским сказкам, к сказкам А.С. Пушкина и собственные книги-сказки Мавриной, где текст минимален и только сопровождает картинки – веселые, дерзкие, ослепительно-красочные. Станковая живопись Т. Мавриной, может быть, не так широко известна, как ее книги-сказки, но нисколько не менее значительна. Она самоценна, хотя и сопряжена с работой над сказочными иллюстрациями. Маврина пишет портреты, натюрморты, панно, пейзажи; более всего – пейзажи старых русских городов. Эти пейзажи одновременно реальны и сказочны. По акварелям и рисунка Загорска можно изучать знаменитый комплекс Лавры, как он выглядит с запада, с востока, со стороны пруда, с горы, и как выглядит сам город Загорск вместе с его населением, в разное время дня, года и столетия – от начала войны до 1960-х годов. Если Вы видите на картине Мавриной свадебную толпу ряженых, лошадь с телегой, везущую тушу теленка, почтовый ящик на ножках посреди площади, – можно не сомневаться, что все это было соблюдено художницей в натуре. Не выдуманы фигуры рыб и белок на островерхих крышах валдайских домов; увиден, а не сочинен автобус с репродукцией «Мадонны Литты» вместо номера, едущий среди приволжских холмов по улице Городца. Как бы, желая подчеркнуть своеобразную документальность своих работ, Маврина не только пишет в углу картины название местности и дату, но и, по примеру старых лубков, дает надписи на самой картине: «Река Цна», «Фабрика газированной воды», «Дом Ворониных XVIII в.». Вместе с тем, эти же надписи, эти буквы прямо на реке, прямо на небе, выходящие из трубы дома, окружающие дерево, способствуют тому отстранению, увиденного, тому приближению его к сказочному миру, которое и составляет замечательную особенность живописи Мавриной. Маврина пишет то, что видит – если не прямо с натуры, то по памяти и впечатлению. Но, она никогда не видит прозаически – она видит в том же поэтически-причудливом ключе, в каком делает иллюстрации к сказкам. Сама народная сказка, а также русский изобразительный фольклор тоже берут начало от впечатлений действительности. Но, долог и извилист путь их претворения в легенду – он теряется в веках. Нелегко понять, откуда явились и почему прижились жар-птицы, львы, «фараонки», какие у них связи с тем, что было на самом деле, какими неисповедимыми путями шла народная фантазия. Творчество Мавриной можно рассматривать, как модель – одну из возможных моделей сотворения сказки из жизни. Можно почувствовать путь сказки – еще, не отлившейся в канон, никогда не кончающейся, непрерывно, творящейся в настоящем. Она прорастает у нас на глазах из знакомого и повседневного. В пейзажных сериях Мавриной, в сущности, нет ни фантастических происшествий, ни фантастических персонажей, а только бытовые мотивы – женщина ведет корову, едет грузовик, дети играют, собаки бегают, цветники куполов возносятся над маленькими домиками, магазинами, булками, вывесками, киноафишами. Но, почему все это, обыденное, кажется волшебным? У Мавриной женщины с ведрами на коромыслах – сегодняшние сельские жительницы и они же – «богини-водоноски»; деревья – золотые и белые ветвистые частоколы, где «заплутались облака»; облака пасутся, как овцы на голубом лугу; весенние лужи – ослепительные, густо-синие зеркала неба. И птицы лесные и домашние, очень заметные и какие-то, особенно, значительные: кажется, они, если захотят, могут заговорить человеческим голосом. Чередование времен года, первый снег, таяние снегов, приход весны – давние, вечные темы: как много это писали! Художница не боится обращаться к ним еще и еще, ей не грозит опасность вторичности – она умеет еще и еще раз сказать о весне по-новому. Было бы неправильно думать, что искусство Мавриной, черпая из народных источников, порывает с русской традицией XIX века. Скорее, она воссоединяет то и другое. Вообще, живопись передвижников не так чужда стихии народного творчества, как иногда полагают. Правда, в середине прошлого века, народное искусство еще не принималось всерьез в среде художников-профессионалов; сознательно к нему стали обращаться позже – в кружке Мамонтова. Но, некое скрытое родство, родство по духу с русским фольклором, есть и у передвижников, – может быть, более, чем у слишком, образованных мирискусников, – ведь передвижники и сами были «людьми из народа», из русских сел и городков. И не любопытно ли то обстоятельство, что именно картины передвижников со временем становились достоянием наивного творчества! «Аленушка» Васнецова, «Утро в сосновом лесу» и «Рожь» Шишкина, «Охотники на привале» Перова имеют свою уже долголетнюю «фольклорную» историю. В своей книге о городецкой живописи Маврина вспоминает купеческий дом в Сарапуле, где «стены, потолки, двери – все было безудержно разрисовано копиями с картин: «Боярский пир» Маковского, «Майская ночь» Крамского и с других – фантазия местных художников-самоучек и купца-чудака». Искусство иконописцев, крестьянское искусство, искусство Перова, Саврасова, Маковского, наивное искусство самоучек – явления разные, но внутренне друг другу не чужие; «одно с другим не спорт», как говорит Маврина. В ее собственных картинах старина не спорт (или, во всяком случае, не ссорится) с новизной. Мало, кто так любит и до тонкости знает русскую старину и русский национальный стиль, как Маврина; тем не менее ей вовсе не свойственен ригоризм строгих ревнителей чистоты стиля. В облике городов такой чистоты быть и не может: город – живой организм, где новое непрерывно наслаивается на старое. Переплетения древнего и современного не отталкивают художницу: она умеет находить в них особую прелесть. У нее нет стремления сделать из старины, неприкасаемый заповедник. Ей нравится соседство пронзительно голубого киоска: «Пиво-воды» с разноцветными куполами Лавры, туристские автобусы в ансамбле Суздаля, лес телевизионных антенн на старых домишках. Где теперешнее, где прошлое? В маленьких старых городах и пригородах теперешнее сживается с прошлым без резких разрывов, естественно и само вливается в ручей сказки, истоки, которого, – в незапамятной старине. Богородские игрушки, городецкие чаепития, изразцовые шатры, фигурные коньки – и кумачевые лозунги, афиши, громкоговорители; молодые люди с фотоаппаратами, старушки в платочках и модницы с лихими прическами; лошадь с телегой и «Победа» – все, даже, пресловутая «красота-пошлость» – бумажные цветы и гипсовые кошки, – все превосходно вписывается в картины сегодняшней жизни Загорска, Городца, Суздаля, Валдая, Балахны и существует там в веселой живописной гармонии. Ее полотна полны экспрессивного юмора, она работает в динамичном ритме и темпе, компонует свободно, ее рисунок красив, в нем есть, вызывающая смелость, почти дерзость выражения. Не, связывая себя правилами традиционной перспективы и моделировки, она находит особый язык для выражения пространства, пространственных отношений, если, можно, так сказать, напряженных эмоций пространства. Прямых линий, ровных очертаний художница не признает: ее линии вьются, перебиваются, обрываются. Рисунок узорен, но без всякой «ювелирности»; напротив, все, как бы несколько грубовато, шероховато, как фактура древесной коры; преувеличивается корявость и приземистость домиков (а, иногда их «пряничность»), и если, даже, какая-нибудь колоколенка XVII века в натуре выглядит слишком изящной, художница откровенно признается: «когда рисую, я ее все-таки, огрубляю, упрощаю, принижаю, как в знаменитой деревянной богородской игрушке: «Троице-Сергиева Лавра». Иногда, кажется, что Маврина пишет с удивительной, чуть ли не с детской непосредственностью. Но, не нужно быть знатоком, чтобы почувствовать за этой простотой большую, изощренную живописную культуру. Путь к такой простоте долог. Непосредственность Мавриной – это меньше всего непосредственность автодидакта, самоучки. Кроме, собственно русских традиций, в ее искусстве претворились также и французская – Ван Гога, Боннара, Матисса, может быть, Марке и даже Пикассо. Художница выросла в Нижнем Новгороде и с детства полюбила радостное, праздничное искусство этого края. Потом училась во ВХУТЕМАСе у Фалька. На первых порах – после ВХУТЕМАСа – «французское» начало сказывалось в ее живописи сильнее, отчасти, оттеснив ранние отроческие пристрастия. Ее живописные и графические работы 1920-х-1930-х годов заметно отличаются от более поздних и по сюжетам, и по манере: светлая живопись, передающая форму исключительно цветом, довольно, изысканно, нюансированная в цвете, и темпераментные рисунки-наброски, построенные на игре легких и влажно, расплывающихся пятен туши. В достаточной мере артистичные, эти ранние работы, однако, еще не вполне «мавринские», не до конца индивидуальные. Индивидуальность художника, включая его неповторимую манеру видения, все-таки кристаллизуется тогда, когда художник находит своей материал – «то, что он любит», как говорил Ван Гог. Маврина сосредоточилась на том, что она любит, или вернее, вернулась к предмету своей первой любви где-то в начале 1940-х годов: конечно, тут сыграло роль, предельно, обострившиеся чувство родины, охватившее всех в годы Отечественной войны. В эти годы Маврина, как и многие советские художники, делала антифашистские агитационные лубки. В эти же годы она стала писать московскую и загорскую серию, увлеклась изучением древнерусской иконописи и заново открыла для себя городецкие «примитивы» – «чаепития», «всадников», «розы» на донцах прялок. Эти крестьянские росписи художницу не только заинтересовали, не просто понравились, но дали новый толчок развитию ее собственных художественных принципов. Вот, как она сама об этом говорит: «Тогда я, воспитанная «на французах», была очарована совсем другой, неведомой мне техникой, совсем другим способом «крашения», дающим большой звук. Без неясностей, спадом и подъемов, при экономной палитре. Тут все одноценно – на уровне законов современной живописи. Вешай их хоть с Матиссом, или Пикассо – не пропадут». Известная близость к Матиссу в полотнах Мавриной очевидна, особенно наглядна она в ее натюрмортах – букетах цветов. Труднее уловимы отношения живописи Мавриной к живописи Пикассо. Отдаленные, опосредованные – все же они есть. Вероятно, они определяются склонностью художницы к иронии и гротеску. Ирония Мавриной – это та веселая насмешливость, которая проглядывает подчас в народном творчестве. Ирония более всего находит себе выход в портретах Мавриной, которые всегда похожи и, в общем, не злы, они всегда ироничны, а иногда перерастают в гротеск. Часто они служат художнице материалом для сказок. Примечательный художественный эксперимент – несколько композиций: «На выставке Пикассо». Маврина, как я понимаю, ставит в них задачу, подобную тем, которые часто, разнообразными способами, решал и сам Пикассо: объединить в одно непротиворечивое пластическое целое жизнеподобные образы с предельно, условными и трансформированными, преодолеть их художественную несовместимость. В этих своеобразных штудиях «по мотивам» Пикассо с особенной остротой выразилось пристрастие художницы к встречам и слияниям разнородного. Она любит «чудное» не меньше, чем чудесное. «Чудное» она никогда не упускает случая подметить и в пейзажах «чудо-городов». Там, течение времени само осуществляет непрерывные слияния – древнего и нового, бытового и сказочного, романтичного и тривиального. В художественную родословную Мавриной какими-то элементами входит и живопись Ван-Гога: напряженной красочностью, динамизмом рисунка. Но, дальше этого аналогия не идет – по той причине, что драматический внутренний пафос Ван-Гога слишком далек от мировосприятия художницы. Вероятно, для характеристики художника имеет значение не только то, что у него есть, но и то, чего нет, что отсутствует. Дарованию Мавриной не свойственно чувство трагического, сумрачного, скорбного, или страшного. Бывают ведь и страшные сказки. Маврина таких не рассказывает. В этом отношении склад ее творческой личности действительно совпадает со складом русского народного творчества, по крайне мере, изобразительного. В сознании русских народных мастеров жила какая-то безотчетная уверенность в том, что краски предназначены для радости, должны веселить душу и расцвечивать жизнь. «Плач и рыдания» оставались на долю протяжных заунывных песен, рассказы о горьких бедствиях сохранились в словесном эпосе; изобразительный фольклор был, по преимуществу радостным. Может быть, потому, что он исполнял декоративную функцию – украшать предметы? Но, и на иконах изображения ада, чертей, казни грешников более забавны, чем страшны (в отличие от аналогичных сцен, например, в европейской готике). Как бы то ни было, Маврина, по выражению Ефима Дороша, «всей сутью своею мастерам этим родная сестра». Ее творчество не отлилось в законченные формы: оно эволюционирует. Параллельно происходит сближение станковой живописи художницы с ее сказочными композициями. Сначала пейзажи и картины городов писались независимо от работы над книгами-сказками, хотя и были подспорьем для них, давали материал, типаж, подсказывали какие-то решения. Увиденное в натуре помогало работе фантазии. Но, со временем усиливалась и «обратная связь» – воздействие фантазии на восприятие натуры. Сказочные и фольклорные ассоциации стали проникать в натурную живопись и в ней «материализоваться». Посреди улицы – сегодняшней улицы с водопроводной колонкой и почтовым ящиком гарцует лихой всадник на вороном коне, герой городецких росписей. Огромные сказочные зайцы скачут на фоне Углича. Загадочные птицы рельефов Георгиевского собора в Юрьеве-Польском срываются со стен и бегут прочь по дорожке, на ходу, превращаясь в обыкновенных гусят. Где сказка, где быль? Их приметы талантливо перемешаны, границы стираются. Маврина – очень современный художник. Нельзя о ней просто сказать, как принято: она продолжает традиции народного творчества. Она самовластно и своевольно интерпретирует их, включая фольклорные образы в свой собственный художественный мир, играя с ними, как ей хочется. Хотя, иной раз она и прямо переносит в свои произведения те, или иные мотивы – вятской и богородской игрушки, городецкой росписи; они при этом перенесении изменяют свою природу. Их жизнь в произведениях Мавриной – уже совсем не та, что спокойная жизнь на донцах прялок. Образы и приемы народного искусства приобретают у Мавриной характер динамичный, гиперболический, экспрессивный, подчиняются бурному натиску фантазии, начинают жить в иных ритмах, темпах и измерениях. В новых измерениях времени. Искусство Мавриной я воспринимаю, как поэму о времени, о его, неостанавливающемся, непрерывном течении. О времени, которое все видоизменяет и ничего не зачеркивает, делая возможными причудливые амальгамы старого и нового, бывалого и небывалого. И, непрерывно меняется лик земли: как будто бы и то же, а другое. И старинные купола живут во времени, постоянно оказываясь в новом «контексте» и от этого меняя свой вид и смысл. Продолжают жить на земле и старые сказки – только в новых обличьях.
Автор статьи Н. Дмитриева
Материал взят из публикации: Дмитриева Н. Искусство Татьяны Мавриной / Н. Дмитриева // Декоративное искусство СССР. - 1973. - №7. - С. 39-41.