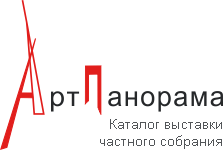Артпанорама поздравляет всех дам с наступающим праздником весны - Международным женским днём 8 Марта!
Галерея будет закрыта для посещения 8,13,14,15,18,19,22,23 и 24 марта 2025 г.
С нами всегда можно связаться по телефону +79035098386 или в WhatsApp.
а так же отправить MMS или связаться по тел.
моб. +7(903) 509 83 86,
раб. 8 (495) 509 83 86 .
Заявку так же можно отправить заполнив форму на сайте.
Режим работы в марте13 янв,2025
Васин Виктор Федорович, художник22 дек, 2024
Режим работы в новогодние праздникиАрхив новостей
Статьи
Это чувствовалось даже в его грубоватом ответе на вопрос: «Важно, что черепа изображены без нижней челюсти, а никакого философского содержания они не несут…». Михаил Иванов пояснил: «Художник освобождает зрителя, чересчур, нацеленного на идеологию, от постоянного выискивания ее в каждой мелочи». Впрочем, на уровне, сознательно, обозначенных влияний, Громов выделяет французскую школу: импрессионизм и фовизм. «Французы служили знаменем, а работали, мы, конечно же, исходя из собственных впечатлений». Это совершенно точно: живопись абсолютно впечатленческая, и никаких внешних, автономных по отношению к изобразительности идей в ней нет (кроме, быть может, идеи смерти, или пустоты). Однако, помимо, отчетливо. Прослеживаемого, влияния Дерена, Руссо, Мане, или Сера ощущается, конечно же, и присутствие Малевича, со всем мировидением, стоящим за ним (русский космизм и т.п.). Особенно, это видно в картине 1969 года: «Ржевка». Но, это и другое влияние чересчур опосредованно, чтобы можно было всерьез говорить о какой-либо преемственности, и связано не только, и не столько даже с влиянием французов, сколько с общей атмосферой и настроенностью на жизнь большого города, современного мегаполиса – со всеми его особенностями: танцзалами, пляжами, а, главное, с его рассыпающимся на отдельные кадры многообразием, которое просто невозможно в плотно, спаянной супрематистской вселенной, где каждый предмет имеет геометрически (спинозистски) доказанное место в общем плане. Ближе и характернее для общего настроя художника влияние примитивизма, русского и французского: того же Анри Руссо («Первый снег» 1992 года, «Огороды» 1994 года), где, что и у Руссо, необъяснимая, логически, безысходная тоска, а одинокая женская фигура в белой кофточке на фоне толстых бревенчатых заборов излучает абсолютную обреченность (этакая Катерина из «Грозы» Островского). Громов из тех художников, кто ничего не «выдумывает», а если выдумывает, то только угол зрения и «поворот»: он не платоник, а аристотелик. Его картины – это отдельные, статичные кадры: их не склеить в некий квазианимационный ряд, в «фильму», для этого им не хватает внутренней, имманентной, связывающей их логики. Это не видения, а именно впечатления. Абсолютная неидеологичность творчества Громова вроде бы должна была сделать его коммерчески, преуспевающим. Однако, выставка в Музее Ахматовой – его первая персоналка. И это в семьдесят лет! В том-то и парадокс, что до сих пор у нас отсутствовали механизмы поддержки естественного интереса к искусству, не наделенному – явно, или в подтексте – некой идеологией. Взять, к примеру, картину: «Пляж». Такого ярко-зеленого моря и радующих глаз цветов тентов и купальников, я и не вспомню больше. Но, по контрасту, полное отсутствие лиц, вместо лиц – какие-то блины. Этот контраст, быть может, выражает оправдание и даже апологию чистой, не омраченной, сознанием «невинной жизни телесности», общего потока городской массы, движущейся в пространстве, обжитом, глазом художника, независимо от какой-либо семиотической нагрузки, отягощающей и лишь, уродующей эту телесную тотальность. Апология безличности, тяга к незаметности, к «свободе от лица» – позиция, невероятно, современная, постмодернистская, коммерческая. Однако… У меня сложилось мнение, что такой позиции не хватает органики, так сказать, внутренностей. Это неорганическое искусство. У Громова нет, в сущности, отчетливых характеров, фигур; только масса штрихов, поз, живых, но неустойчивых впечатлений. Его герои часто явлены со спины («Белая ночь», 1969 г.; «Обнаженная», 1980-ый год). Картины объединены в серии, но это серии, продиктованные, не внутренней логикой развития, а чисто тематически. Мы не находим здесь умозрения – лишь верность пейзажу, верность картографии местности, хотя это и была бы местность души. Это верность стихии воздуха, но не хватает, так сказать, земли, твердой кости. Отсюда и навязчивый мотив смерти («Френологические композиции»), а также мотивы зеркала, театральности (серия «Театр»). Многочисленные: «Френологические композиции» – это натюрморты с черепами – натюрморты, как бы, удвоенные, до понятия натюрморта, т.к. изображена не просто «мертвая» натура, но натура, сама, являющаяся, признанным символом мертвости (впрочем, вполне традиционный для европейской живописи мотив). Череп, зеркало и театральная сцена – три мотива, обнажающие пустоту, таящуюся под покровом красок, выражающие недоумение перед неотвратимостью абсурда. Бесконечный пейзаж, обступающий микроскопическую человеческую фигурку, величествен. В повторяемости навязчивых зеркал и черепов проступает идея смерти, смыслового предела. В эстетическом плане – это отчасти констатация ситуации барокко, гамлетизма, а в русской традиции отсылает к мирискусникам (Сомову, Борисову-Мусатову) с их игривыми картуазными сценками, с парково-маскарадной атрибутикой, в сущности, наполненными, жутью, как блоковская: «Снежная маска», или театральная пьеса, задаваемая Гамлетом Гертруде. Между этими полюсами – пейзажем и натюрмортом – находится зона приватности: зона лица, портрета. И она является наибольшей концентрацией внутреннего трагизма. «Автопортрет» 1958 года являет лицо, темно-красное от тяжелой, невыносимой для живого существа мысли. Это, как бы эллинистическая маска, окаменевшая от напряженного, отупляющего недоумения в отношении противоречивых, пробующих все на разрыв, неотвратимых фактов. Удивителен портрет сына 1980-го года. Своего собственного ребенка так рисовать, кажется, не принято. В портрете есть безжалостность. Это лицо мальчика, вынужденно, застывшего, насильственно, превращенного в модель, лицо, мучающегося, человека. И, за этим, думается, стоит более глобальная интуиция: мучительность была моделью, мука статики натюрморта, в которой живому человеку – не жить, а лишь «позировать» на время, привлекая к себе взгляд и талант художника, как постороннего, беспощадного свидетеля. Впрочем, возможно, поэтому у женских моделей Громова лица и вовсе отсутствуют.
Автор статьи Семен Левин
Материал взят из издания: Левин С. Между пейзажем и натюрмортом // Новый мир искусства. – 2000. – №2(13). – С. 23.