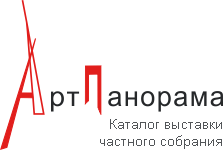Артпанорама поздравляет всех дам с наступающим праздником весны - Международным женским днём 8 Марта!
Галерея будет закрыта для посещения 8,13,14,15,18,19,22,23 и 24 марта 2025 г.
С нами всегда можно связаться по телефону +79035098386 или в WhatsApp.
а так же отправить MMS или связаться по тел.
моб. +7(903) 509 83 86,
раб. 8 (495) 509 83 86 .
Заявку так же можно отправить заполнив форму на сайте.
Режим работы в марте13 янв,2025
Васин Виктор Федорович, художник22 дек, 2024
Режим работы в новогодние праздникиАрхив новостей
Книги
>>Русская живопись XX века В. С. Манин (том 2)
В 1920-е годы было три-четыре объединения с едиными стилевыми признаками, что не означало их превосходства над другими мастерами, подчас со своеобразным живописным языком. Попытки усмотреть пластические сближения ряда художников имеют смысл, но искусство этого времени представляет мозаику индивидуальностей старшего и младшего возраста, художественное значение которых в истории искусств ничуть не ниже сформировавшихся стилевых и направленческих потоков. Причем эта мозаика являет собой перемежение стилевых и содержательных различий, что усложняет группировку и анализ художественных тенденций. Иначе говоря, индивидуальность могла значить больше, чем коллективная художественная концепция. С другой стороны, эти индивидуальности понимались как остаточные завершения стилевых направлений, продолжения крупных художественных величин, но, что не менее важно, совершенно незначительное содержание некоторых произведений выглядело свежо и выразительно благодаря новым интонациям изобразительного языка. И эти вроде бы незначительные работы оказывались более привлекательны, чем содержательные вещи. К сожалению, на протяжении 1920-1930-х годов «мелкотемье» было более ярким, нежели глубокие эпохальные произведения искусства. Однако их было больше, чем в эпоху Серебряного века.
Другой особенностью 1920-х годов явилось зарождение художественных группировок, унаследовавших некоторые стилевые особенности конструктивизма. В этой особой образной структуре время заявляло о себе в суровой и стремительной стилистике. Это, прежде всего, московское «Общество станковистов» (ОСТ), основанное в 1925 году выпускниками ВХУТЕМАСа во главе с Д. Штеренбергом, и ленинградский «Круг художников» состоявший из молодых выпускников ленинградского ВХУТЕИНа. Их темой явилась современность в ее городских и производственных ритмах, в темпе времени, замеченном в специфике послеоктябрьской жизни.
Тенденция искусства 1920-х годов — социальная интерпретация действительности в ее негативном обозначении. Эта тенденция присутствовала в творчестве «Союза русских художников дореволюционного периода», но не так отчетливо, как у Давида Петровича Штеренберга (1881-1948), который мотив социальной укоризны перевел в другую пластическую плоскость, где просматривались уроки авангарда и собственные продолжения формальных исканий.
В общем не типичная для ОСТа, эта тенденция тем не менее проскальзывала у Ю. Пименова («Отравленные газом») и более выразительно — у Сергея Александровича Лучишкина (1902-1992) в картине «Шар улетел» (1926), где дана бытовая сценка, пронзительная по безысходности изображенной жизни. Одинокая, так же как Аниська, девочка заключена в проем, образуемый двумя тоскливо-серыми домами, в окнах которых видна бессмысленная неодухотворенная жизнь обывателей.
На «остовцев» большое влияние оказал немецкий экспрессионизм, приспособленный к русскому пониманию действительности и пластическим пристрастиям художников. Впрочем, это понимание более касалось содержательной специфики отображенного бытия, нежели живописи. Экспрессионизм терял в творчестве остроту, постепенно подтягиваясь к натурному видению.
Бытовой жанр в искусстве 1920-х годов продолжая утрачивать свои очертания. В произведениях Штеренберга, Лучишкина, Лабаса он лишился формы изобразительного рассказа, сюжетное действие его сокращалось, заменяясь емкой и броской символизацией образа. Жизненный эпизод осмысливался как сущностное явление быстротекущей жизни, и тем самым его единичное значение превращалось в значительное событие. Бытовой жанр продолжали в искусстве 1920-х годов художники реалистического плана. Кончаловский даже расширил его образный диапазон новыми средствами, развивая традиционную тему народа.
Творчество ОСТа, в чем-то подобное «новой вещественности», сменило привычную ориентацию с французского искусства на немецкое, на значительно ослабленный экспрессионизм. Наиболее близок он был Андрею Дмитриевичу Гончарову (1903-1979) («Портрет Сен-Катаямы»; «Смерть Марата», оба — 1927), Ю. Пименову в упоминавшейся серии «Отравленные газом», Александру Григорьевичу Тышлеру (1898-1980) («Гуляй-поле» из серии «Махновщина», 1927), Александру Аркадьевичу Лабасу (1900-1982). Такому обмену идеями способствовали выставки немецкого искусства, проведенные в России в первой половине 1920-х годов, и русские выставки «остовцев» в Германии.
Как и все «остовцы», Лабас искал не только новизны в текущей жизни, но и новизны в исполнении. Не всегда это удавалось, ибо поставленная пластическая задача как бы приобретала автономное значение и отрывалась от темы. В работах середины 1920-х годов художник относится к цвету весьма нетрадиционно. Цвет превращается в раскрашенные плоскости, перспективное удаление которых достигается не тональностью, хотя художник от нее не отказывается, а рисуночной перспективой. Смысловые планы, рисующие город со специфической ею жизнью, словно накатывают сверху вниз, утяжеляя изображение, и акцентируют внимание на стремительных городских ритмах («Городская площадь», 1926).
Затем Лабас ставит задачу воплощения скорости, более того, скорости, воспринимаемой не со стороны, а из движущегося объекта. Художник продолжает линию абстракционизма: пытается выразить невыразимые физические явления, такие как гравитация, вес, пространство и пр., но делает это посредством предметного изображения («Едут», 1928; «Поезд идет», 1929; «Первый паровоз на Турксибе», 1931). Это ощущения нового времени, новые точки зрения, введение в оборот искусства технических новшеств, дающих новые понимания места человека в жизни, в окружающей его техногенной среде. По этой причине у Лабаса такие неожиданные точки зрения: из окна мчащегося вагона, из самолета, взгляд на город из окна аэроплана («В полете», 1935).
Такие же цели ставит П. Вильямс («Автопробег», 1930) Желание изобразить новые скорости, темпы, ритмы в искусстве поощряется исходя из новаторских побуждений художников. Лабас обращается к прерывистому мазку, которым он не лепит округлую форму, но старается протяженными, сокращающимися линиями создать перспективу, а пробегающий пейзаж выразить размазанными не собранными в предметное изображение однотонными мазками или растворенными цветовыми размывами («Вечером в городе», 1922; «Город на Западной Двине», 1928). И все-таки впечатление мелькания предметов не создается. Увлеченный задачей передачи движения, Лабас не придает большого значения цвету. Он остается не столь графичным. сколь невыразительно монохромным — качество, присущее многим «остовцам» (Вильямс, отчасти Пименов, Люшин, Гончаров, ранние Дейнека и Тышлер).
Погоня за новой выразительностью, преодоление натурного видения, казалось бы, уже исчерпанного, привели «остовцев» и всех поставангардных живописцев к поискам неожиданных приемов, усиливающих образное восприятие, но подчас алогичных, поражающих не обостренно выявленным смыслом изображенных мотивов, а своего рода рекламной зазывностью приемов, которые ставят перед зрителем загадку: что бы это могло значить?
Таковы вздыбленные вопреки всяким представлениям о перспективе плоскости и фактурные нашлепки Штеренберга, замедленные силуэтные ритмы Дейнеки или его же кажущийся нелепым футболист на фоне колокольни Новодевичьего монастыря («Футболист», 1932), такова винтообразная, закрученная шея женщины в «Аэроплане» Тышлера, придуманное «мелькание» из движущегося объекта у Лабаса и т. д. Такие художественные решения имели аналогии в других искусствах 1920-х годов и представляли собой подобие знамения времени. Достаточно вспомнить теорию В. Шкловского «искусство как прием». Обращение к приему не всегда завершалось неоправданными решениями. В конце 1920-х годов тот же Лабас в картине «Утро у аэродрома» (1928) или в абрамцевской серии работ решительным, взвинченным мазком придает динамическую силу изображению.
К середине 1930-х годов остовский «формализм» был изжит точно так же, как ранее изжиты были авангард и традиционный реализм. В ходе политических проработок художников второй половины 1930-х годов «формалисты» защищались, настаивая под напором уничтожающей критики новоявленных ревнителей соцреализма на том, что избранный ими путь был единственно верным (выступления в дискуссиях МОСХа 1938 года Д. Штеренберга, В. Татлина и др.).
В 1929 году Лабас создал картину, своего рода политическую сатиру, под названием «Акула империализма». Изображение странного летательного аппарата с короткими крыльями было повторено и в панно того же названия в 1932 году. В панно «акулу» сбивали пушками. Этот политический символизм, или памфлет, был раскритикован за формализм. Картина исчезла, а ее автор на долгие годы скрылся с поверхности художественной жизни. По странности судьбы в 1990-х годах на вооружении российской армии появился боевой вертолет Ка-50 «Черная акула», почти один к одному повторяющий образ картины Лабаса.
Авангард не был задавлен властью. К середине 1920-х годов он исчерпал себя, не удовлетворяя общественные потребности. «Остовская» концепция искусства, вышедшая из авангардного наследия, явилась своего рода переходной фазой к реализму. Субъективно она пыталась, и небезуспешно, использовать технологию беспредметников (композицию, конструкцию, цветоотношения, рисунок и т. п.). Это особенно ясно при сопоставлении «Динамического города» (1919-1920) Г. Клуциса и «На стройке новых цехов» (1926) А. Дейнеки, где колорит стальных конструкций совпадает с предметной и беспредметной живописью. Концепция «искусство как прием», безусловно, обновившая творчество художников и оказавшаяся в состоянии воплотить психологию задержавшегося старого и темпы нового времени, стала исчерпывать себя в начале 1930-х годов.
«Остовцы» сознательно использовали прием затрудненной формы, заставляющий подолгу вдумываться в смысл произведения. А сама неожиданность приема вела к усилению впечатления. Какого характера было это впечатление, соответствовало ли оно теме, художника мало интересовало. Такой путь зачастую формализовал прием, придавал ему пусть и неожиданный, удивляющий, но не связанный с картиной смысл. В. Шкловский — опоязовский, а затем лефовский теоретик — предложил странное определение искусства в условиях «приема» как художественного акта: «Искусство есть способ пережить делание вещи, а сделанное в искусстве не важно».
Искусство не есть процесс, а есть эстетический результат творческого процесса. Поэтому «сделанное в искусстве» очень важно, оно и есть искусство. Искусству всегда полезно «остранение», но не обязательно в виде приема, хотя язык обновляется, в том числе и за счет нового видения новой реальности.
Наиболее последовательные «остовцы» продолжали настаивать на своей правоте, в то время как действительность 1930-х годов заявила о новых потребности: Художники, более других чуткие к общественным запросам и к перемене вкусовых настроений, и в первую очередь Александр Александрович Дейнека (1899-1969), не изменяя собственной манере, сумели особенно емко выразить подъем в обществе и передать его в ритмах новой жизни.
Первые работы Дейнеки несут на себе печать экспериментов его учителей из ВХУТЕМАСа. Обучаясь у них, он сделал первые пробы в беспредметном искусстве, усвоил новую живописную технику, освоил конструкцию картины и принципы нового мышления. Некоторые из «остовцев» прошли школу агитационного искусства, расписывая агитвагоны, творя лозунги и призывы революции, поэтому уяснили для себя, что абстрактное творчество не может выразить многие актуальные идеи и переживания эпохи. Дейнека не только писал картины, но и участвовал в выпуске журнала «Безбожник», делал плакаты, исполнял другие работы, то есть был целиком включен в политическую жизнь страны.
К крупным монументальным произведениям Дейнеки следует отнести «На стройке новых цехов» (1926). В картине проявился специфичный изобразительный язык художника. Она выражает текущую жизнь страны — строительство индустрии, принадлежностью которого был энтузиазм строителей. Этот пафос времени, его суровые интонации художник воплощает в четком ритме стальных конструкций, до него в искусстве не имевших места. В линейных перспективных сокращениях ощутимо влияние конструктивизма, не только не забытого, но используемого в его выразительных наработках. Однако в полотнах «На стройке новых цехов» и «Текстильщицы» идеи конструктивизма явно формализуются. Изображение в значительной мере сводится к осевым и косым линиям, геометрическим построениям, значительно обесцветившим живопись, которой время сообщило суровую и аскетичную тональность. В «Текстильщицах» же работницы словно застыли в случайных позах. Реальные ритмы производства расходятся с их естественными движениями. В то же время более раннему холсту «На стройке новых цехов» передается монументальный размах эпохи. Фигуры работниц тоже монументализированы, лишаясь качеств обычного человека. Монументализирует форму точка зрения снизу вверх. Фигуры даны в неожиданных ракурсах, с укрупненными деталями и резким цветом, сближенным с красновато-стальным колоритом конструкций. В полотне Дейнеки присутствует гипербола. Она — в мощных разворотах фигур, явно их искажающих, в чертежном изображении конструкций цеха, в подчеркнуто «железной» фактуре стройки. Все эти кажущиеся несоразмерности создают впечатляющий образ времени.
Дейнеку часто сравнивают с Ходлером. Экспрессивные, полные выразительной силы, с преувеличенными формами, персонажи Ходлера имеют глубокий и ясно читаемый смысл. Влияние его на Дейнеку сказалось в холсте «На стройке новых цехов». Но подход художника к образному построению несет на себе печать другого времени и, следовательно, иное решение образа. Оно покоится на эффекте остановленного движения, где одновременно присутствуют динамичность и статика. Женщина разворачивает вагонетку, и вся ее фигура в движении, но движение — промежуточное, на пути к завершению. Фигура женщины застыла, как в кинематографическом кадре, пойманная в случайном положении. У Ходлера такого нет. Зато есть ходлеровское укрупнение форм у Дейнеки, не приводящее к экспрессии: мощный «круп» женщины, ее загорелые крупные ноги с глянцевыми пятками, не имеющими опоры и зависшими как бы напоказ. Неестественность положения распространяется на странную фигуру молодой работницы с розовыми ногами, вывернутыми в неестественном повороте.
Эффект случайного движения, пойманного «кинокамерой», усматривается в спортивном цикле Дейнеки. Но что еще в творчестве Дейнеки 1920-х годов напоминает Ходлера, так это некая манерность, заметная в позе молодой работницы в картине «На стройке новых цехов», а также в фигурах работниц в полотне «Текстильщицы». Сочетание отзвуков модерна с четкими конструктивистскими приемами Дейнеки, с его «грубым» письмом, равно как и совершенно не декадентскими персонажами, кажется странным. Вскоре эта странность исчезает. В оправдание художника манерность следует отнести не к влиянию модерна, а к напряженным поискам приема.
Эпоха, ее стальной чеканный шаг ощущается и в других произведениях Дейнеки. Классической для советского времени стала картина «Оборона Петрограда» (1928). Сюжет превращен в символ революционного времени, и своего рода знак лишений и жертвенности. Произведение построено конструктивно четко. Две разноуровневые цепочки красноармейцев с противонаправленными движениями: одна идущие на фронт, другая — раненые, возвращающиеся в город. Суровый темный колорит это как бы знак времени. Фигуры людей плоскостные, почти силуэтные. Дейнека опять повторяет железный ритм композиции, в которой видится некий символ, сущность жестокой борьбы, а не случайный, пусть и выигрышный для композиции эпизод.
Многие исследователи сходятся на том, что Дейнека отобразил свое время. Но какое это время? Ясно, что художник интерпретирует его в пользу жертв Гражданской войны и целей, ради которых погибали люди. Однако картина дает основание прочитать ее в несколько другом ключе. Два плана, верхний и нижний, со всей очевидностью выявляют смысл происходящего и смысл эпохи. По нижнему ряду идут суровые бойцы, еще не победившие, по верхнему — возвращаются уже побежденные. Они преподаны в соответствующем минорном настроении, они звучат, как реквием. Возникает образ своеобразного молоха, в жерло которого отправляются люди, перемалываемые им с жестокостью зловещей силы. Такая интерпретация возникает, возможно, вопреки замыслу художника, но она вероятна, ибо вытекает из построения полотна и его психологической трактовки.
«Оборона Петрограда» завершает суровые 1920-е годы искусство которых вспоминало совсем еще недавние революцию и Гражданскую войну. И надо сказать, что Дейнеке более, чем другим, удалось запечатлеть пульс этого драматического времени.
В 1930-е годы живопись художника обращается совсем к другим темам: материнство, спорт. Сам Дейнека был боксером и изобразил известного спортсмена, своего товарища, в картине «Боксер Градополов» (1927). В 1930-е годы превалируют лирические темы, удивительно проникновенно воплощенные в картинах «На балконе» (1931), «Мать», «Спящий ребенок с васильками» (обе — 1932), «Будущие летчики» (1938).
Диапазон восприятия мира у Дейнеки довольно широк. В совокупности тематики художник создал объемную «картину мира». В начале 1930-х годов он отказывается от силуэтного изображения и переходит к сухой, словно процарапанной черенком кисти живописи, посредством которой передает свои лирические переживания («Сухие листья», «Сельский пейзаж с коровами», «Солнечный день», «Ночной пейзаж», все — 1933). Цветовая гамма скупая, темная, не звучная, более графичная, нежели живописная. Изображения, будь то натюрморт, пейзаж или сюжетная сцена, как «Ночной пейзаж», обретают черты образного понятия: нежности, лирики, любви, жизненности. Лошади в «Ночном пейзаже» словно чеканятся на темном фоне неба, сухая трава прописана с большой точностью и эмоциональностью, переданной энергичным, изгибистым рисунком. Такая пластика свидетельствует о новом подходе к образному строению. Овладевшая художником идея ищет выход не в натурном изображении, а в некоем сопряжении отобранных элементов натуры с целью преобразования реальности в мир картины, лишь напоминающий реальность, ибо художник использует натурный импульс для создания образа настроения, пластически новационного.
«Настроенчество» перелома веков (у И. Левитана, С. Жуковского и др.) в советское время было заменено другим «настроенчеством», в котором чувство интимности не ослабло, а перешло в другую тональность. Дейнека в этом смысле является одним из зачинателей.
Дейнека любил писать крепких, здоровых людей. Спортивная тема присутствует в картинах «Утренняя зарядка», «Игра в мяч» (обе — 1932), «Бег» (1933), «Севастополь. Динамо» (1934), «Купальщики», «Обеденный перерыв в Донбассе» (обе — 1935), «Призывники» и многих других. Все эти работы не демонстрируют культ силы, а испытывают жажду гармонии. Художник воссоздает культ здорового тела, подобно тому, как оно было воспето в античные времена. И это тоже — дух нового времени. Дейнеке пришлось отказаться от жесткой «латунной» манеры письма 1920-х годов, перейти к объемной лепке формы. Но в новой пластике ощущается обобщенность изображения, сосредоточение живописных характеристик, почти плакатно экономных и потому броских, на самом главном. В своем творчестве Дейнека переставляет акценты. Его интересует не столько форма, пренебрегающая смыслом (как это было в «Футболе», 1984, где игроки замерли в случайных позах, не передающих экспрессию игры, или в «Текстильщицах». 1927, двигающихся, как сомнамбулы), сколько содержание, способное передать идею, суть жизненных явлений.
Живопись Деинеки прочерчивает заметную грань между более формализованными 1920-ми и 1930-ми годами. Художник считал «Футбол» началом своего нового языка, - «Игра натолкнула меня на свой самостоятельный язык... Я компоновал новое пластическое явление и вынужден был работать без исторических сносок». Движение фигур, как в замедленном кино. Они хорошо скомпонованы по диагонали. Скупая по цвету живопись строится по светотеневому регистру, выделяющему мышцы игроков. Картина графична и жестка. Новые найденные ритмы своей замедленностью не совпадают с подвижностью и стремительностью игры.
В начале 1930-х годов стали оправдываться социальные обещания советской власти: было восстановлено народное хозяйство, ликвидирована безработица, сокращен рабочий день до восьми часов вместо двенадцати прежних, строились новые города и рабочие районы в старых городах, развивалась промышленность, появилось физкультурное движение. Рабочее население страны имело перед глазами реальность, а не социалистическую утопию, что позволяло им относиться к тому новому, что появилось в жизни, без предубеждения.
Дейнека улавливал новизну жизни через неведомые ранее ощущения и сюжеты: «Другим стал человек. Его обязанности перед собой и обществом стали ответственней и богаче. Меняются вид городов и быт. Рамки понятия реального расширяются, мы глубже и шире видим, иные ощущения вкладываем в живописные качества». Соцреализм не только предлагал фиксировать эту реальность, но и создавал предпосылки для мечты о будущем, то есть взрыхлял почву для мифологии. Вероятно, такая мечта используется государством в своей идеологии для придания людям оптимизма, столь необходимого для любого развивающегося общества. Подобное явление можно отметить в США, где в послевоенное время было выдвинуто пропагандистское понятие «американской мечты», закрепленной во многих произведениях кинематографии и литературы. Государственная мифология — обычное явление XX века.
С этих позиций можно понять творчество Дейнеки и других художников не как ложь, а как правду, овеянную нередко мечтой о счастливой жизни. В этом смысле Дейнека следовал в русле соцреализма до того, как его норма была одобрена съездом писателей. Мифология находила свое место и в русском искусстве начала века (Рерих, Богаевский, Сарьян, Кузнецов и др.). Но их вымышленная страна счастья не носила социального характера. Мало того, мифология начала века компенсировала недостающее. Мифология соцреализма культивировала настоящее и возможное будущее. Дейнека в своих работах говорил правду. Правда заключалась и в пафосе времени, который окрашивал его сюжеты. По этой причине работы Дейнеки никоим образом нельзя причислить к мифотворчеству. Художник если и мечтал о чем-то. то на почве реальности. Его работы полны светлого приятия сущей жизни. Дейнека-реалист не мог не проникнуться иронией к действительности, но не к нашей, а к американской, итальянской или французской — «Дорога в Маунт-Вернон», «Филадельфия», «Монахи». «Париж. В кафе» (все — 1935). Его лаконичная манера, схватывающая основной рисунок и цветоотношения зримого предметного мира, была больше, чем манера. Это был стиль времени индустриализации, техники, авиации, спорта, до этого не имевших столь стремительного развития. Стиль, похожий на облик своего времени, который художник, подобно модельеру-стилисту, смоделировал в своих произведениях.
Близким Дейнеке по стилю, но только в 1920-х годах, был его товарищ по ОСТу Юрий Иванович Пименов (1903-1977), Его работа «Английские солдаты переходят на сторону революции» (1929) столь же экспрессивна и монументальна, как и произведения Дейнеки. Но Пименов не обладал энергией своего товарища. Правда, в картине «Даешь тяжелую индустрию!» (1927) видятся энергия и плакатная призывность, определяемая плоскостным изображением металлургического процесса. Оптимистический пафос строительства новой державы, поднимающейся из разрухи, включен в ростовскую» стилистику и в образную структуру, присущую дейнековскому крылу ОСТа. Однако сама живописность работ Пименова явно снижена. На нее оказали влияние и подчинили себе графика и плакат, и это составило существенную утрату пименовской живописи.
В плакатной стилистике «остовцы» исходили из убеждения, что послереволюционная живопись должна быть агитационной. Отсюда сближение плаката и картины. Картина «Даешь тяжелую индустрию!» была повторена Пименовым в плакате. Разница в решении была незначительной. В 1930 году появилась совместная статья Ю. Пименова и П. Вильямса «Довольно художественного брака», где авторская позиция была выражена отчетливо: «…прямая агитация и пропаганда — таковы основные линии пролетаризирующегося советского искусства. Так как в наших условиях искусство — не станковизм, а публицистика, не музейный олимпизм под красным соусом, а острота и ударность фельетона, то патетика и сатира сегодняшнего дня должны определять искусство СССР».
В 1960-х годах художник весьма скептически отзывался о своем творчестве 1920-х годов, находя тогдашний путь ошибочным. Действительно, его ставшая хрестоматийной картина «Новая Москва» (1937) и последующие работы — это уже не Пименов, а другой художник. Впрочем, может быть, с «Новой Москвы» начинается истинный Пименов. Картина гармонировала с настроением обновления, царившим в стране. Москва предстает как бы в новом облике; не только в новостройках, обновленном Охотном ряду, но и в стиле жизни: за рулем автомобиле молодая женщина — явление, только начинавшееся, редкостное. Художник обращается к импрессионистической манере «текучего» письма, придающего открывающемуся виду подвижность. По тем временам импрессионизм считался буржуазным течением, началом формализма, но оптимизм пименовской картины преодолевал дежурные обвинения.
Пименов 1930-х годов отказывается от темы революции, а заодно и от экспрессионистской стилистики, и от производственной тематики. Его внимание привлек «новый быт», который, по мысли советских идеологов, должен был повлиять на формирование нового человека. Выделяется тема «новой женщины», которую общество старается «окультурить». И вот здесь намечается различие между тем, что хочет сказать художник, и что в результате получается. Эта общая для художников проблема у Пименова имеет частное решение. Он не чувствует различия между реальным явлением и его толкованием. Это обстоятельство обнаруживается в трех работах, объединенных одной темой: «Работницы в ложе театра» (1934), «Работницы на заводе» (1934-1935), «Работницы Уралмашзавода за чаем» (1935). Его персонажи не индивидуализированы, а даны общим планом. Лица их почти стерты, плоскостны («Работницы в ложе театра»). Они кажутся на одно лицо, взаимосвязь между ними не мотивирована («Работницы на заводе»). Перегруженность деталями, предметными подробностями мешает увидеть в «новой женщине» ее новизну Все три картины — это иллюстрация к явлению жизни, а не само явление в его существенном проявлении, поданном через оригинальные человеческие характеры и тем более образы
В 30-х годах Пименов отрабатывает новую для себя стилистику, отчетливо видимую в картинах с обнаженными: «Натурщица с кувшином», «Розовая натурщица» (обе — 1932), «Лежащая модель» (1936), «Золотистая натурщица» (середина 1930-х). Живопись художника артистична. Модель представлена в нежных легких цветах, красивые, певучие линии очерчивают туманящуюся живопись, промеченную осторожным касанием кисти. Это изящество становится основным мотивом его творчества, будто существующим автономно, слабо связанным с предметом изображения.
Судя по тому, что художник обращает выработанную стилистику к любой теме, в том числе ей не отвечающей («Работницы на заводе»), можно судить, что он подлаживает предмет под свое представление о предмете, который резонирует в картине, но слабо, будучи подчиненным стилистике. В данном случае возникает проблема авторского голоса, проблема интерпретации. Голос художника звучит в ряде случаев сильнее, чем смысл избранной темы. Это очевидно и в серии с обнаженными, где целомудрие художника и его моросящий «мазочковый дождь» позволяют остаться в рамках свойственного ему артистизма и тем самым избежать изображения «голой женщины».
Картине Пименова «Новая Москва» не находилось равноценных аналогий ни во время, ни после ее появления. Однако близкие ей работы создавались. Пименов не был одинок. Его поддержал Борис Алексеевич Шатилов (1905- 1922), произведение которого «В трамвае» (1937) в точности следует за «мазочковой» живописью Пименова. Картина Шатилова лишена, тем не менее, пименовского воодушевления и представляет собой частную сценку в трамвае, не ведущую к серьезным обобщениям. Подобной же стилистикой и таким же оптимистичным восприятием новой жизни обладал Владимир Григорьевич Одинцов (1902-1957). Его картина «Стихи» (1937) является как бы продолжением темы Пименова, выраженной в картине «Новая Москва».
Художники ОСТа отличались сравнительно малым вниманием к цвету. Живопись их была аскетично-выразительной, но не содержащей цветового разнообразия. Серо-стальной цвет играл ведущую роль, а если вводился какой-либо другой цвет, то был он какой-то безвкусный. Особенно это касается работ Петра Владимировича Вильямса (1902-1947) «Человек в лодке», «Акробатка» (обе — 1927). Несколько иной «Портрет кинорежиссера Барнета». Он обладает монументальной формой. Гораздо более внушительна образная интерпретация модели. Это человек нового времени; несмотря на довольно серую цветовую гамму, характер, обрисованный почти графично, выразителен.
Бывшие «остовцы» во многом очертили себе круг тем — это новая техника, самолеты, дирижабли, Турксиб, люди искусства, пионерия, спорт, строительство. Традиционные сюжеты тоже не были обойдены «остовцами», но к ним обращались гораздо реже. Стилистика художников отличалась от традиционной. Они использовали цвета новых материалов: стали, алюминия, парашютного шелка. Обычные сюжеты подавались в необычных ракурсах, с неожиданной точки зрения.
Похож по тематике на Лабаса Василий Васильевич Купцов (1899-1935), не входивший в ОСТ. В ярких, глянцево-леденцовых красках он обратился к самому примечательному техническому новшеству — огромному шестимоторному самолету «Максим Горький», который, казалось, изменил всю жизнь, создал новые ощущения, повернул интерес к развитию, а не к консервации старого. Вся эта содержательная новизна облеклась в стилистическую новизну. Надо сказать, что установившиеся монотонность, невыразительность цвета искупались композиционными находками, но ОСТ все же не использовал возможность колорита в полную меру, как это делали бывшие «бубновые валеты» или «союзники». Исключение составляли Дейнека и Нисский, отчасти Пименов и Тышлер.
Георгий Григорьевич Нисский (1903—1987) начал свой путь в искусстве в начале 1930-х годов. Расцвет его творчества пришелся на 1940—1960-е годы. В искусстве своем он подобен Дейнеке в двух отношениях: содержательно-тематическом и стилистическом. Картины «Осень. Семафоры» (1932), «Октябрь» (1933), «Маневры Черноморского флота» (1937) примыкают к индустриальной теме «остовцев». Но эта тема не открывает, не поэтизирует новые сферы жизни современников. Она подана как уже знакомая в поэтическом восприятии светлого просторного неба и убегающих вдаль стальных путей, осмысленных как призывные пути-дороги. Дорога — этот вечный мотив странничества, распространенный в русском искусстве XIX века, все более со временем приобретает в творчестве Нисского современные мироощущения, неясное тяготение к пространствам, присущее человеку. Стилистика произведений Нисского сродни обобщенной живописи Дейнеки, ритмам его работ, но есть и особенности: суровый, но интенсивный и яркий цвет — свидетель новой «окраски» жизни.
В 1920-е годы искусство ОСТа критика оценивала положительно, отличая его пластические особенности: «ОСТ мечтает создать живопись, которая была бы лаконичной и в то же время объективно точной; яркой и в то же время пуритански-суровой». В этом отзыве хотелось бы поставить акцент на слове «суровый», характеризующем пластическую особенность ОСТа и ряд сопряженных с ним объединений и отдельных художников Однако более меткую и точную характеристику дал А. Гончаров, являвшийся членом ОСТа: «Лишь понимание искусства, в первую очередь как мировоззрения, а не только как мастерства, сумеет создать настоящий реализм. В противном случае каждая форма окажется мертвой». Это многозначительное высказывание весьма показательно для времени. Искусство осознало себя как художественное творчество, в котором художник отказался от концепции авангарда, занятого поисками формы и не замечающего ни жизни вокруг себя, ни перемены общественных
отношений, ни окружающего мира, ни потребности в глубокой идее, ни дара проникновения в духовную сферу человека. Иначе говоря, в искусство стала возвращаться функция искусства как познание мира посредством художественной формы, озабоченной оформлением мысли. Можно считать, что беспредметность была преодолена. Она стала восприниматься как мычание глухонемого, который голосовыми модуляциями пытается и не может объясниться с людьми. Возникло и понимание того, что форма изобразительного искусства — это не только изображение, колорит, рисунок, композиция, цвет по отдельности, а все в совокупности, иначе искусству трудно состояться как художественному явлению, в котором всеми его компонентами руководит и приводит к целостности осмысленное содержание, содержательная идея, интерпретация жизни.
Художником, близким к «остовской» эстетике, особенно к творчеству Дейнеки, Пименова, Вильямса, Лучишкина, Вялова и других, был Александр Николаевич Самохвалов (1894-1971). Он проявил в своем творчестве полную содержательную и стилистическую самостоятельность, отражающую его взгляд на действительность, и особенно на портреты современников, которые преимущественно тяготеют к типологии человека 1930-х годов. Все эти работы отличает монументальный стиль. Фигуры портретируемых даны крупным планом, подобным кинематографическому наезду. В композиции отсутствует пространство, оно явно условно и прочитывается настенной фресковой живописью. Все это создает впечатление значительности, но не величественности образа. Судя по названиям картин: «Женщина с напильником», «Кондукторша», «Работница табачной фабрики» (все — 1928), «Портрет маслодела Марии Ивановны Голубевой», «Портрет полевой работницы Анны Ульяновой» (обе — 1931-1932), кажется, что художник пишет профессии, которыми овладели женщины. Нечто вроде картин И. Щедровского «Сбитенщик», «Продавец кваса». «Плотники», «Торговка апельсинами» (все — 1839) и др. В действительности, это не типология профессий, а социальный типаж, расположенный ближе к кустодиевской типологии: «Купец с деньгами», «Купчиха» (1915), «Купчиха за чаем» (1918) и др. Самохвалову больше удавалась индивидуальная характеристика, нежели типичные черты женщин нового времени. Нет сомнения, что сам типаж трудовой женщины - это яркая новация художника, завершившаяся картиной «Молодая работница» (1928) я обаятельным образом «Девушка в футболке» (1932). Но, за исключением «Молодой работницы», «Маслодела Марии Ивановны Голубевой» и «Девушки в футболке», идеал «нового человека» не состоялся. Впрочем, если не воплотился идеал, то «новое время» отложилось в работах Самохвалова ярко и выразительно. Прежде всего, это касается серии «Девушки Метростроя» (1934-1937). Особенно красноречив монументальный пафос этих произведений, придающий им энергию и силу.
В том, что художник воспевает физическую силу женщин, уравненных в своих правах с мужчинами, сказывается влияние государственной идеологии, устанавливающей эмансипацию полов в физическом труде, то есть даже там, где это было недопустимо по медицинским аргументам. Мощные тела женщин («У крана», «У лебедки», «С лопатой», «Несущая арматуру», все — 1934) развернуты в пространстве в энергичном движении, которое было неведомо былому искусству. Энергия и сила не тождественны экспрессивному изображению, свойственному европейскому экспрессионизму. И эта содержательно-пластическая новация соответствовала новому мировоззрению, в основе которого лежала активность в жизни не как поступок, а как ежедневная форма существования.
Сам художник выразился так: «Меня привлекал здоровый творящий дух в здоровом теле». В этих словах видится глубокий смысл работ Самохвалова, а также Дейнеки, Пименова, Вильямса. Подобное мироотношение было связано с активным освоением промышленных гигантов, а в данном случае — со строительством метрополитена, нового средства коммуникации, немыслимого при царском строе. Все движения, равно как и спокойные позы метростроевок («Метростроевка со сверлом», 1937), сопровождены резкой светотенью, неожиданными ракурсами. Краски светлы, они обыгрывают мощные объемы женщин. Сам художник писал по поводу серии «Метростроевок»: «Поиски образа-типа советской девушки-метростроевки, органически впаянной в общий ход гигантской стройки, в которой ее общественный смысл подчеркивается каждой деталью, требовали, как мне казалось, иного подхода и иного формата решения».
В картине «Военизированный комсомол» (1932— 1933) все движения искусственны. Этот вероятный, а может быть, действительный недостаток картины придаст ей пружинистую константу. Четкие ритмы упражняющихся в стрельбе, почти вертикальные по отношению к композиции сообщают сюжету типическую характерность явления. В строю узнаются уже известные персонажи других произведений художника: «Партшколовец Сидоров» (1931), «Осоакиахимовки», «Комсомолец 30-х годов (оба — 1932). Помещенные в общий строй, они теряют индивидуальность, но приобретают характерные черты людской массы. Единообразные движения усиливают впечатление безликости. Яркие краски, особенно красные цвета на фоне зеленых, активно «беспокоят» четкие линии композиции. Искусственность, особая архитектоничность полотна, смещенность групп стреляющих к краю холста как бы имеют смысловые продолжения за его пределами. Обучение Самохвалова у конструктивистов и беспредметников сказалось в некоторой условности его изобразительного языка. Но именно эта условность сделала смысл произведения внятным, содержание отчетливым, что не удавалось его учителям, увлеченным поиском нового языка, лишающего художника общения с действительностью,
В связи с творчеством Самохвалова возникает вопрос о структуре его образов. Что это — обобщение, символ или типизация? Обобщение обычно увязывают с концентрацией в образе общностных черт какого-либо явления или предмета. Символ скрывает в себе знаковые понятия, обремененные историческими представлениями и убеждениями. Типизация близка к обобщению, но избирает характерные черты личности, природы или общественных явлений. Ход мысли Самохвалова в создании явно типизированных, обобщающих и символизированных образов можно условно назвать выходом к знаково понятым образам, к смысловым означенностям, находящим типическое выражение жизненно важных явлений, для которых найдена оригинальная пластическая форма, воплощающая энергию и напряжение жизненных коллизий.
Целая группа московских «остовцев» и ленинградских «крутовцев» составляла пластическое единство: посредством подобной живописи они приходили к образам, с разных сторон воплощающим, так сказать, городскую культуру. Если «остовцы» и «круговцы» посвящали свое творчество новым явлениям жизни: технизации общества, спорту и новому строительству, то, как бы в противовес им, «круговец» С Павлов — окраинам Петрограда. Схожую с ним тематику разрабатывал Н. Дормидонтов.
Алексей Федорович Пахомов (1890-1973) в начале пути был очень похож на Самохвалова монументальным характером творчества. Его образы приобретали значительность не только большим форматом изображения, но, главным образом, существом темы.
Одна из первых работ Пахомова «На покосе» (1925) по своей цветовой гамме — сине-зеленая и синяя трава, контрастно перебиваемая красными рубахами и юбками косцов, — сродни живописи Петрова-Водкина. Но главное, пожалуй, не внешняя для картины тональность, устанавливающая это родство, а отклик на сельскую и городскую современность. В этой теме чувствовалось суровое и тяжелое время. Отсюда, видимо, и проистекала монументализация незначительности, преодоление которой требовало от человека твердого характера и чуть ли не героических усилий. К подобному типажу относятся «Спартаковка» (1925), «Работница» (1926), «Девушка в красном» (1929), «Девушка на солнце» (1934) — некая аналогия образам Самохвалова, и обаятельная «Студентка Института народов Севера» (1933) — шедевр живописи, исполненный во фресковой манере. Легкий, бегущий по контуру лица свет оживляет пытливое, с прямым взглядом лицо студентки. Стесненность композиции, укрупняющая изображение, — не что иное, как желание втиснуть монументальную фреску в станковые рамки. Но это обстоятельство сообщает цвету цельность, не дробящую впечатления законченности и оригинальности образа.
Жажда монументального размаха сказалась в картине «Жница» (1929), Этим замыслом объясняется тяжелая скованность движения жницы, словно придавленной узким форматом холста, не позволяющим ощутить человека в свободном движении. Простота композиции подкреплена почти локальным цветом, по сути, тремя Пеками: красной, синей двух оттенков и желтой.
Пахомов посвятил свою жизнь иллюстрированию детских книг. К живописи, раскритикованной многими критиками, он почти не возвращался. Пережив ленинградскую блокаду, художник посвятил ей серию рисунков, с большой убедительностью показавшую мужество и трагедию населения города.
Живописцем, примыкавшим к «Кругу художников», но несколько иной стилистики, предвосхитившей манеру раннего Дейнеки, был Семен Андреевич Павлов (1893-1941). Целая плеяда замечательных мастеров погибла во время ленинградской блокады зимой 1941- 1942 годов, и Павлов был среди них.
Его «Василеостровский пейзаж» (1923) — ранний пример мрачного осознания действительности времен послереволюционной разрухи. Колорит этого зимнего окраинного пейзажа с мрачными стенами домов и черными деревьями лишен цвета и своим настроением внушает безысходность людского бытия. Однако суровая и мрачная гамма вполне соответствует темному пробуждающемуся петроградскому утру и не грешит против сумрачного людского мироощущения тех трудных времен. Другие его работы, «Март» (1923) и «Зимний пейзаж» (1924), написаны по контрасту белого (снега) и черного (деревянных домов). И несмотря на то, что художник проигрывает красоту подобных цветосочетаний, общее мрачноватое впечатление от старых пролетарских окраин остается.
Николай Иванович Дормидонтов (1898-1962) ней входил в «Круг художников», но его жесткая и сухая стилистика была сродни и Павлову, и Самохвалову. Две его картины: «Окраина Ленинграда. Музыканты» (1928) и «Музыканты» (1931-1934), прочерчены ровными линиями ж с нанесенной четко по контуру ровной краской. Такая манера шла вразрез с принципами «Бубнового валета», а мировоззрение — с «Голубой розой». Четкость мысли отражается в четкости живописной пластики. Первая работа — бытовая сценка, имеющая свою стилистику и новую тему. Тема — это окраинная жизнь большого города. Она становится специфичной для 1920- 1930-х годов и никак не соприкасается с перспективами развивающегося социализма. Искусство Павлова и Дормидонтова показывало как бы обратную сторону действительно модернизирующейся реальности. «Музыканты» исполнены в пессимистическом духе. В них исчезла ранняя анекдотичность бытовой сценки. Показана тяжелая жизнь не только бродячих музыкантов (они — деталь общей картины заброшенных пролетарских районов), но и бытовой среды раннего советского общества. В подобном изображении ощущается внутренняя конфликтность между лозунгами.
Перспектива, далевые пространства обозначаются линейно. Цвет, ранее организовывавший пространство убыванием цветосилы в глубину, теперь заменяется тоской раскраской. В картине «Окраина Ленинграда. Музыканты» разноокрашенные дома плоскостны, глубина строится постепенным закрытием дальних плоскостей ближними, стоящими перед ними. Цветовая перспектива становится как бы обратной: передний план со снегом темнее заднего, светлого. Сырая туманная дымка петроградского дня не застилает дали серой мглой («Василеостровский пейзаж»).
Все эти элементы составили новую пластику, которая до революции не играла существенной роли или вообще не использовалась. И надо отметить, что Дормидонтов, несмотря на временные и недолгие отступления в сторону романтизированной производственной темы («Днепрогэс», «Сталелитейный завод», обе — 1932), возвращался к мрачной теме рабочих окраин («Окраина Ленинграда», 1933-1937).
К середине 1930-х годов развернулась жестокая борьба за чистоту пролетарской идеологии. Идеологические оппоненты правящему режиму уничтожались. Об этом свидетельствуют процессы над «врагами народа» 1937- 1938 годов.
В искусстве началась кампания против формализма. Первым под каток попал Д. Шостакович с оперой «Леди Макбет Мценского уезда». В «Правде» появилась статья «Сумбур вместо музыки», разгромившая это произведение. Власть стала диктовать искусству нормы творчества. Соцреализм фиксировал эти нормы довольно расплывчато, но главные в их числе, реалистическая форма и социалистическое содержание, стали неукоснительно внедряться в жизнь, С этой целью в 1938 году в Москве и Ленинграде Союзы художников провели обсуждения состояния советского изобразительного искусства. Прорабатывали «формалистов», бывших и настоящих. В их число вошли В. Татлин, Д Штеренберг, и Тырса, В. Фаворский, А. Карев, А. Тышлер, А. Древин и др.
Никто из «формалистов» не каялся. Некоторые весьма агрессивно нападали на власти предержащие. К примеру, выступление Д. Штеренберга содержало сожаление о напрасно потерянном времени приноравливания к соцреализму. Штеренберг не был отчаянным формалистом. Его предметная живопись давала неплохие результаты, а знаменитые «Селедки» отражали голодное время революции. Будучи начальником отдела изобразительных искусств Наркомпроса в 1918-1921 годах, он, не разделяя принципы супрематизма и пр., считал необходимым разрешить авангардистам производить эксперименты. Возможно, это явилось одной из причин нападок на него блюстителей чистоты идеологии. Но ревнители чистоты имели в виду, если отбросить узкогрупповые интересы, по крайней мере два объективных фактора, в согласии с которыми проблемы искусства предлагалось разрешить если не справедливо для художников, но, во всяком случае, принципиально для масс.
Первое: трудящиеся массы, перед которыми открылись искусства, не могли понять деформированные изображения, воспринимаемые ими наподобие кривых зеркал. В равной степени не понимали они и беспредметную живопись. Об этом говорят результаты социологических опросов. В условиях политики, выдвинувшей лозунг «искусство в массы», формалистические эксперименты вызывали раздражение.
Интеллигенция тоже не принимала исканий авангарда, считая их несовместимыми с искусством. Достаточно вспомнить критические выступления А. Бенуа, Н. Радлова. Действительно, искусство, чтобы удовлетворять общественные потребности, должно быть понятным, иначе оно будет служить для ничтожно малой группы почитателей «таланта».
Вторая причина связана с тем, что в области искусства образовались два принципа отношения к нему, два понимания. Один, древний, сводится к мимезису, то есть искусству подражания природе, посредством которого художник создает художественные ценности, способные воплотить не только натуру, но и переживания человека, восторг перед природой, раскрыть жизнь в ее ведущих нравственных и духовных проявлениях, в борьбе противоречий и т. д. и т. п.
Второй поток, рожденный XX веком, сосредоточился на поисках новых средств выражения. Происходило это за счет сокращения внимания к жизненным проблемам. Но на поверхности искусства появлялись работы, не адекватные поставленной задаче. Оперирование атрибутами формы, бесконечные замены привычных значений, считавшихся надоевшими, как то: пространства — плоскостью, плоскости — предметом, предмета — фактурой, разъятие предмета с целью показать его с четырех сторон одновременно, изображение окрестного мира прямым, боковым, задним зрением и т. д. и т. п., — все эти изобретения новых конструкций привычного мира, как это делает школьник, играя с конструктором, не могли отождествляться со смыслом и содержанием духовной жизни человечества, проникновением в загадки космоса. Форма автономизировалась, жила по прихоти автора, не заботясь о воплощаемом ею смысле. Даже если приращение, «изобретение» формальных вариантов высказывания состоялось, эффект искусства как эстетического фактора выходил на поверхность предельно сокращенным. Искусство ничего не строит, оно творит свой мир, интересный отражением человеческих забот, общественного сознания, таинств природы и т. д.
В середине 1930-х годов в «мясорубку» обвинений в «формализме» попал Сергей Васильевич Герасимов, даже не однофамилец, как он говорил, Александра Михайловича Герасимова — одного из виднейших певцов вождя. С Герасимов написал большое полотно «Колхозный праздник» (1937). Пронизанное солнцем, это произведение воплощало обычный для крестьянской жизни праздник урожая. Художник исполнил свое полотно в звучной импрессионистической технике, переливающейся всеми цветами радуги, чем выразил оптимистическое восприятие мира. За него Герасимов был бит дважды. За «буржуазную», разлагающую форму импрессионистическую технику — в 1938 году. Второй раз — в 1963 году за прославление колхозной жизни в то время, когда миллионы осужденных сидели в лагерях, то есть за безнравственность.
Подобное искажение реальной стоимости искусства, и в частности живописи, не побуждало к поискам. Оно консервировало ее в рамках натурного письма в четко прописанных границах дозволенного содержания. Однако живопись сопротивлялась и находила свои выходы из тупиковых ситуаций.
Искусство 1920-х годов было, пожалуй, более социально ангажированным, чем искусство начала XX века. Что касается пластических проблем, то искусство 1920-х годов явилось рубежом между дореволюционной феерией пластических открытий, часто бессмысленных, и открытием новой типологии живописи, не просто повторяющей продолжавшееся в советское время искусство «устаревающих» художников, но и вносящей пластические новации, соответствующие содержанию, на чем, собственно, и держится настоящее, глубокое искусство живописи. В этом смысле давно пора отказаться от квалификации изобразительного искусства начала века как Серебряного века, а 1920- 1930-е годы считать временем упадка, насильственно сотворенного послереволюционным периодом.
В русском искусстве его течение если и прерывалось, то только в пору засилья беспредметности (1918-1922). Непрерывность, впрочем, сказывалась и в это время. Лучшее произведение А. Рылова «В голубом просторе», созданное в 1918 году, не укладывается в определение Серебряного века, отмеченного декадансом и духовной анемией. Произведения Петрова-Водкина 1916-1935 годов — лучшие в его творчестве. Дейнека, Самохвалов, Корин, Пластов и многие другие — гордость русского искусства XX века — появились в 1920- 1930-е годы.
Кстати, работал и авангард, правда, без восторженного шума, но нашедший свои продолжения и в живописи, и в дизайне (И. Юнон, И. Чашник, А. Лепорская, Н. Коган, Н. Суетин). На фоне широкого распространения предметного искусства абстракционизм стал интересен для узкого круга любителей. И в этом кругу тихо скончался за ненадобностью. Такие же процессы происходили с авангардом и в западном искусстве.
Искусство 1920-х годов во многом выходило из авангарда, испытывая на себе влияние его формальных экспериментов. Но оно, «забывая» авангард, будто возобновлялось, начиная новый отсчет с предавангардного момента. Причем новая генерация совершала эти продолжения предметной формы в условиях повышенного внимания к общественному содержанию. Это было видно по тяготениям к выразительности цвета, к конструкциям предметных сопряжений, к построению перспективы или намеренному ее отсутствию, к предельной фактурной иллюзорности предмета и т. д. и т. п.
Суровое время 1920-х годов было уловлено искусством с большой точностью, соответственно содержанию жизненных явлений возникала форма живописи. Исторически следует признать, что это была первая волна «сурового стиля». Вторая, учтя опыт своих предшественников, возникла в 1960-х годах, когда и получила свое название, в то время как 1920-е годы остались непоименованными.
Искусство XX века развивалось по пути возникновения и повторения, иногда неоднократного, образных и стилевых потоков. Причем называть последующие явления эпигонскими вряд ли правомочно, поскольку они отражали свое время и вследствие этого обновленная их усилиями пластика существенно расходилась с прежним искусством.
В развитии русского искусства явно наметилась цикличность, повторяемость опробованных типов образности. Эта цикличность заметна не только в 1920-1930-х годах, но и гораздо ранее — в начале XX века, в самых разных «нео»: в неоклассицизме, в неоромантизме, неорококо и неореализме.
1920-1930-е годы преодолели формальные эксперименты и вернули искусство к его основной функции — познанию жизни и ее отражению в прямом смысле этого слова, а также в форме притч, философских раздумий, предугадывания будущего и строгого отчета о прошлом в иносказаниях и метафорических формах. В этом великое значение прежде всего 1920-х годов, когда зародились новые образные и стилистические тенденции. В любом случае искусство полно и разносторонне ретранслировало действительность в художественной форме. Поэтому рассматривать это время как провал можно только допуская, что искусство лишило себя содержания и увлеклось формальными экспериментами, как это случилось в период революции и Гражданской войны. В действительности в 1920-1930-е годы произошло возрождение изобразительного искусства. Появление на параллельных путях методологии соцреализма ограничило широту осмысления действительности, но не смяло познание жизни как одну из функций искусства.
Периодизацию советского искусства провести довольно трудно, потому что жизнь искусства проходила неровно. Неясно, что надо брать за единицу отсчета. Если взять историю авангарда, то она окончательно завершилась к началу 1930-х годов. Соцреализм, возникший не сразу, не был последователен. Старые художники-традиционалисты, работавшие до 1950-х годов, не принимали его в расчет. Они оказывали серьезное воздействие на молодое поколение, в большинстве своем ориентированное на их творчество. Значительно трансформировались представители «Бубнового валета», но по странности обстоятельств у некоторых из них наступил провал во второй половине 1930-х годов. Зато другие (Фальк, Кончаловский) набирали силу с начала 1930-х до середины 1950-х годов. В связи с такой неравномерностью целесообразнее прослеживать художественные метаморфозы по оригинальности методологических подходов, лишь ориентировочно расставляя хронологические вехи. Первый такой период можно отсчитывать от середины 1920-х до середины 1930-х годов. В это время угас «формализм», заявила о себе новая генерация художников, подготовленная советскими вузами, возникла государственная теория искусства — соцреализм, вышло на авансцену второе поколение советских художников, возникла тихая оппозиция официальному искусству и многое другое.