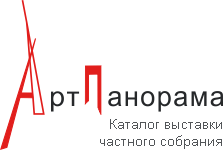Режим работы в марте
Артпанорама поздравляет всех дам с наступающим праздником весны - Международным женским днём 8 Марта!
Галерея будет закрыта для посещения 8,13,14,15,18,19,22,23 и 24 марта 2025 г.
С нами всегда можно связаться по телефону +79035098386 или в WhatsApp.
Для своего собрания «АртПанорама»
купит картины русских художников 19-20 века.
Свои предложения и фото работ можно отправить на почту artpanorama@mail.ru ,
а так же отправить MMS или связаться по тел.
моб. +7(903) 509 83 86,
раб. 8 (495) 509 83 86 .
Заявку так же можно отправить заполнив форму на сайте.
а так же отправить MMS или связаться по тел.
моб. +7(903) 509 83 86,
раб. 8 (495) 509 83 86 .
Заявку так же можно отправить заполнив форму на сайте.
03 мар, 2025
Режим работы в марте13 янв,2025
Васин Виктор Федорович, художник22 дек, 2024
Режим работы в новогодние праздникиАрхив новостей
Режим работы в марте13 янв,2025
Васин Виктор Федорович, художник22 дек, 2024
Режим работы в новогодние праздникиАрхив новостей
Обсуждение картин
Книги
Русская живопись XX века В. С. Манин (том 3)
>>6. Новые направления (1970-1990-е годы)
04. Брайнин Владимир Александрович.
Эссеистика, подменившая анализ произведений искусства в 1990-х годах, соответствовала такому же эссеистическому подходу художника к предмету изображения, которому придавался глубокомысленный вид, закодированный до неузнаваемости. Былую образность стали предпочитать вымышленной эссеистической форме.
В подобных случаях имеет смысл обратиться к пояснениям самих художников. Они, может быть, в более расплывчатых формах, но все-таки приближают к реальности. Начнем с творчества Владимира Александровича Брайнина (род. 1951). Определяющим элементом его искусства является рефлексия: «Я стремлюсь к выражению таких хрупких, меняющихся и зыбких вещей, представлений, которые есть во мне (и, наверное, в каждом из нас), стараюсь сделать видимым наш внутренний мир, как я его чувствую. Чтобы наши ночные разговоры на кухне, наши прогулки по городу, дружбы, страхи, надежды не стояли в стороне, отдельно от искусства, а были в нем и через меня… Для меня важнее всего – цвет; я люблю цвет и через него воспринимаю мир и искусство… Вот, например, задремал ночью в машине, потом очнулся – и, оглянувшись, за задним стеклом увидел фантастическую картину, неузнаваемый, странный город, совершенно не похожий на привычный. Передать такое ощущение непосредственно невозможно, перед этим теряешься, - и потом в работе начинает собираться образ того внешнего ощущения, он соединяется с моими представлениями и эмоциями в движении цвета, в отблесках фар на влажном асфальте, в каких-то перетеканиях форм и пространств. Ведь город – это множество и археологических, и людских, и исторических явлений, всегда таинственных в своих переплетениях. Необычайность кроется за самым простым и знакомым: дом стоит, дождь прошел, машины, лужи… Но ведь есть нечто высшее – Земля, Влага, История, Дождь…
Я пишу людей, город, какие-то явления – я хочу, чтобы все это не умирало. Может быть, поэтому я акцентирую внимание на моментах разрушения, действия времени – парадокс в том, что у меня в картинах все продолжает жить и, может быть, превращается, обретая новые качества…»
Подобная автохарактеристика обладает достаточной полнотой. Осталось только сопоставить слова художника с его живописью, ибо, как у многих художников, намерения не всегда соответствуют реальной практике. Задуманное намерение по своему художественному качеству нередко страдает мелкометьем и пластической бедностью.
Триптих «Я родился в 1951 году» (1987) слишком личностен, понятен автору, но не зрителю. Права, некий зритель вправе заявить, что ему все понятно. В таком случае ему необходимо сослаться на какие-либо зрительные опоры произведения, поскольку изобразительное искусство изъясняется изображением, пусть даже таящим в себе закамуфлированные или подразумеваемые значения. Они проявляются в виде цвета, то высветленного, то таинственно-затемненного, что приводит к эмоциональному сопереживанию. Ненавязчиво, но отчетливо бросается в глаза система парадоксов. В левой части триптиха, так же, впрочем, как и в правой, изображен стоящий посреди улицы или старого двора изящный столик с изогнутыми ножками и рыбой на нем, что, конечно, парадоксально. В этом мотиве зашифровано личное воспоминание, знание, переживание художника, что становится ясным из его автохарактеристики в каталоге, а не из произведения. Возможно, зрителю ничего не нужно понимать, достаточно восприятия некоей парадоксальности, создающей неясные, но эмоционально действующие образы. Таков «Дом с кариатидами» (1987) с распахнутым на улицу интерьером комнаты, за которой виден асфальт со слезливыми потеками живописи. Кариатиды выглядят живыми женщинами с умоляющими глазами. Все таинственно, все исполнено значений, создающих образ старого города и старой жизни, жизни-воспоминания, а также нереальности. Подобные воспоминания-сновидения заключены и в картинах «Я вспоминаю», «Рыбная ряды» (обе – 1982), «Город III» (1987), «Переход. Портрет отца» (1988) и др.
Несмотря на самостоятельность интерпретации города, в работах Брайнина слышны переклички мотивов и приемов, открытых художниками старшего поколения. Распахнутый интерьер картины «Дома с кариатидами» ранее встречается у И. Орлова в работах «Летняя ночь» (1977), «Интерьер с деревом», «Вечерний интерьер» (обе – 1982). Каменный московский двор в картине «Черная труба» (1984) перекликается с «Московским двориком» (1974) В. Дементьева, «Колокольный переулок» (1982) – с «Печатниковым переулком» (1985) Н. Нестеровой.
Серия «луж», равно как и решеток, - это не более чем художественное эссе, рассчитанное на глубокомыслие, но обернувшееся просто-напросто впечатлением о лужах или решетках. Никаких гуманитарных проблем в них не содержится. Они отражают отход от жизненно важной проблематики в эпоху разрухи в стране и обнищания ее населения. Правда, дело художника - обращать на все это безобразие внимание или остаться безучастным. По словам Брайнина, в некоторых его произведениях присутствуют старое и новое, прочитываемые как наслоения времен. Искусство может ставить любые задачи, но раздвигает ли границы искусства эта «всевременность»? Становится ли она реальностью в произведении или она - воображение, фантазия. виртуальность («Голова», 1996; «Лён», «Голова», «Двое», все - 1999; «Центурион III», «Кариатида», обе – 2000; «Стена XV» и др.)? Настенные скульптуры – это не просто украшение. В произведениях Брайнина они – фантомы прошлого. Скульптуры представлены автономно, без сопряжения с окружающим, как старое без нового. Новое заключено в интерпретации. Смешанные, пересеченные с реальностью, они порождают виртуальный мир, который в произведениях восьмидесятников расширяет свое пространство, вытесняя реальность. Иное дело – город, ощущение его стремительных ритмов, его впечатляющей мощи, воздействующей на психику людей. «Башня II» (2001) рисует именно такой город, открывающий причины своей таинственной мрачности, город как бы с петлей на шее, сплетенной и замысловатой решетки дореволюционного времени, приметы периода модерна, сквозь которую увиден современный город. Образ «Башни II» впечатляющ, как и многие городские мотивы Брайнина. Внутреннее напряжение города, его сумасшедшего стиля жизни, готового взорваться, захлебнуться в скоростных автопотоках, было осознано Брайниным и в ранних работах: «Патрульная машина на Садовом кольце» (1982), «Москва» (1986). 1990-е годы продолжают эту тему.
К концу века искусство стало терять прозрачность. Изъяснение беспричинно усложнилось. Желание сказать свое слово, не входившее ранее в словарь художественного языка, стало затемнять смысл сюжета и, следовательно, содержания. Вновь придуманные словечки не имели за собой новых смыслов, а лишь по-новому повторяли старые. В результате образ, если он возникал, оставался непонятным, а форма превращалась в навязчивую рекламу «нового мышления» художника.
В подобных случаях имеет смысл обратиться к пояснениям самих художников. Они, может быть, в более расплывчатых формах, но все-таки приближают к реальности. Начнем с творчества Владимира Александровича Брайнина (род. 1951). Определяющим элементом его искусства является рефлексия: «Я стремлюсь к выражению таких хрупких, меняющихся и зыбких вещей, представлений, которые есть во мне (и, наверное, в каждом из нас), стараюсь сделать видимым наш внутренний мир, как я его чувствую. Чтобы наши ночные разговоры на кухне, наши прогулки по городу, дружбы, страхи, надежды не стояли в стороне, отдельно от искусства, а были в нем и через меня… Для меня важнее всего – цвет; я люблю цвет и через него воспринимаю мир и искусство… Вот, например, задремал ночью в машине, потом очнулся – и, оглянувшись, за задним стеклом увидел фантастическую картину, неузнаваемый, странный город, совершенно не похожий на привычный. Передать такое ощущение непосредственно невозможно, перед этим теряешься, - и потом в работе начинает собираться образ того внешнего ощущения, он соединяется с моими представлениями и эмоциями в движении цвета, в отблесках фар на влажном асфальте, в каких-то перетеканиях форм и пространств. Ведь город – это множество и археологических, и людских, и исторических явлений, всегда таинственных в своих переплетениях. Необычайность кроется за самым простым и знакомым: дом стоит, дождь прошел, машины, лужи… Но ведь есть нечто высшее – Земля, Влага, История, Дождь…
Я пишу людей, город, какие-то явления – я хочу, чтобы все это не умирало. Может быть, поэтому я акцентирую внимание на моментах разрушения, действия времени – парадокс в том, что у меня в картинах все продолжает жить и, может быть, превращается, обретая новые качества…»
Подобная автохарактеристика обладает достаточной полнотой. Осталось только сопоставить слова художника с его живописью, ибо, как у многих художников, намерения не всегда соответствуют реальной практике. Задуманное намерение по своему художественному качеству нередко страдает мелкометьем и пластической бедностью.
Триптих «Я родился в 1951 году» (1987) слишком личностен, понятен автору, но не зрителю. Права, некий зритель вправе заявить, что ему все понятно. В таком случае ему необходимо сослаться на какие-либо зрительные опоры произведения, поскольку изобразительное искусство изъясняется изображением, пусть даже таящим в себе закамуфлированные или подразумеваемые значения. Они проявляются в виде цвета, то высветленного, то таинственно-затемненного, что приводит к эмоциональному сопереживанию. Ненавязчиво, но отчетливо бросается в глаза система парадоксов. В левой части триптиха, так же, впрочем, как и в правой, изображен стоящий посреди улицы или старого двора изящный столик с изогнутыми ножками и рыбой на нем, что, конечно, парадоксально. В этом мотиве зашифровано личное воспоминание, знание, переживание художника, что становится ясным из его автохарактеристики в каталоге, а не из произведения. Возможно, зрителю ничего не нужно понимать, достаточно восприятия некоей парадоксальности, создающей неясные, но эмоционально действующие образы. Таков «Дом с кариатидами» (1987) с распахнутым на улицу интерьером комнаты, за которой виден асфальт со слезливыми потеками живописи. Кариатиды выглядят живыми женщинами с умоляющими глазами. Все таинственно, все исполнено значений, создающих образ старого города и старой жизни, жизни-воспоминания, а также нереальности. Подобные воспоминания-сновидения заключены и в картинах «Я вспоминаю», «Рыбная ряды» (обе – 1982), «Город III» (1987), «Переход. Портрет отца» (1988) и др.
Несмотря на самостоятельность интерпретации города, в работах Брайнина слышны переклички мотивов и приемов, открытых художниками старшего поколения. Распахнутый интерьер картины «Дома с кариатидами» ранее встречается у И. Орлова в работах «Летняя ночь» (1977), «Интерьер с деревом», «Вечерний интерьер» (обе – 1982). Каменный московский двор в картине «Черная труба» (1984) перекликается с «Московским двориком» (1974) В. Дементьева, «Колокольный переулок» (1982) – с «Печатниковым переулком» (1985) Н. Нестеровой.
Серия «луж», равно как и решеток, - это не более чем художественное эссе, рассчитанное на глубокомыслие, но обернувшееся просто-напросто впечатлением о лужах или решетках. Никаких гуманитарных проблем в них не содержится. Они отражают отход от жизненно важной проблематики в эпоху разрухи в стране и обнищания ее населения. Правда, дело художника - обращать на все это безобразие внимание или остаться безучастным. По словам Брайнина, в некоторых его произведениях присутствуют старое и новое, прочитываемые как наслоения времен. Искусство может ставить любые задачи, но раздвигает ли границы искусства эта «всевременность»? Становится ли она реальностью в произведении или она - воображение, фантазия. виртуальность («Голова», 1996; «Лён», «Голова», «Двое», все - 1999; «Центурион III», «Кариатида», обе – 2000; «Стена XV» и др.)? Настенные скульптуры – это не просто украшение. В произведениях Брайнина они – фантомы прошлого. Скульптуры представлены автономно, без сопряжения с окружающим, как старое без нового. Новое заключено в интерпретации. Смешанные, пересеченные с реальностью, они порождают виртуальный мир, который в произведениях восьмидесятников расширяет свое пространство, вытесняя реальность. Иное дело – город, ощущение его стремительных ритмов, его впечатляющей мощи, воздействующей на психику людей. «Башня II» (2001) рисует именно такой город, открывающий причины своей таинственной мрачности, город как бы с петлей на шее, сплетенной и замысловатой решетки дореволюционного времени, приметы периода модерна, сквозь которую увиден современный город. Образ «Башни II» впечатляющ, как и многие городские мотивы Брайнина. Внутреннее напряжение города, его сумасшедшего стиля жизни, готового взорваться, захлебнуться в скоростных автопотоках, было осознано Брайниным и в ранних работах: «Патрульная машина на Садовом кольце» (1982), «Москва» (1986). 1990-е годы продолжают эту тему.
К концу века искусство стало терять прозрачность. Изъяснение беспричинно усложнилось. Желание сказать свое слово, не входившее ранее в словарь художественного языка, стало затемнять смысл сюжета и, следовательно, содержания. Вновь придуманные словечки не имели за собой новых смыслов, а лишь по-новому повторяли старые. В результате образ, если он возникал, оставался непонятным, а форма превращалась в навязчивую рекламу «нового мышления» художника.